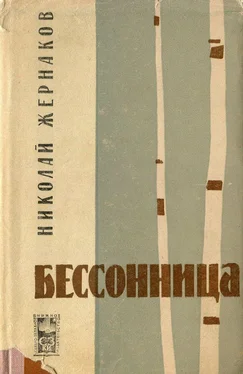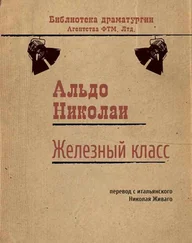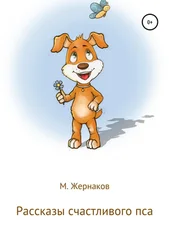Одно отравляло ей радость пришедшего в семью покоя: первый ее внук не был Кокориным. Она сама ходила в загс за метрикой, и сочетание красиво выписанных слов поразило ее: «…Степанович Власов».
— Неужто не противно тебе? — спросила она сына, передавая ему бумажку так, будто стремилась как можно скорее освободиться от нее.
Степан нахмурился, ничего не ответил, и мать из боязни как-то нарушить мир и согласие молодых своим вмешательством, перестала высказывать вслух свои невеселые мысли.
Марина полюбилась матери как-то сразу и навсегда. То ли тем, что пошла против воли отца, принесшего так много горя кокоринской семье, или, может быть, своей какой-то исступленной любовью к ее сыну и ровным, ласковым отношением к ней, своей свекрови.
Марина еще больше похорошела, все наряды ей были к лицу: хоть рогожку на нее надень, все равно залюбуешься. Только иногда омрачалось ее счастье невысказанной мужу обидой, что сын его живет под ее девичьей фамилией.
Непонятно, отчего стал Степан неумеренно прикладываться к бутылке. Вроде и причины к тому не было, а частенько он приходил за полночь под хмельком; бывало и под руки приводили — все больше Пантюха Рябой. С ним Степан как-то быстро восстановил старую дружбу. Выпили они впервые в День Победы, вспомнили войну, и Степан зачастил в баньку.
Кокорины о Федоте почти не говорили, а если вспоминали когда вслух, то потупя головы, как о давно умершем. Дора видела, что Степану было при этом как-то особенно тяжело и неприятно. Но в расспросы не лезла, знала: немного приятного для председателя колхоза в том, что его старший брат посажен за измену. Может, и выпивать Степан стал поэтому.
Вскоре в семью пришло еще большее горе. И было тем обиднее, что пришло оно совсем нежданным. Доре навсегда врезалась в память та страшная ночь.
Степана ждали с работы. В первом часу заскрипел снег под окном, шаркнули ноги в сенях, дверь в кухню распахнулась — и все смолкло. «Видно, грузен, — прислушалась мать. — Что сидишь, хороша жена? Принимай благоверного-то, с кем не бывает…»
Марина неохотно вышла на кухню. Там долго стояла тишина. Вдруг резко выкрикнул Степан. Дора бросилась к двери, но Марина опередила — вбежала в горницу. Лицо у нее было белее снега, будто на чужих ногах, прошла до кровати и молча села не нее. «Что?!» — замерла мать, но не дождавшись ответа, сама пошла в кухню. Там, за столом, как у себя дома, сидела незнакомая женщина. Мать встала перед Степаном, спросила молча, одними глазами. Он только плечом дернул: что, мол, скажу? Так уж получилось… И показал на стол, где лежал раскрытый паспорт. Мать долго силилась понять, почему с паспорта на нее глядела та же женщина, а фамилия ее была Кокорина. Наконец поняла.
Пол закачался, и сына отнесло куда-то в сторону, погас свет — и все замолкло.
Степан в ту же ночь увез гостью в город и вернулся только через неделю.
Гостью увез, а беду оставил. Тихо стало в доме, как при тяжело больном. Марина будто на постой поселилась — в отдельной горенке. Мать очень любила невестку, теперь они как-то еще больше сблизились. Но уже ни к завтраку, ни к обеду, когда был Степан дома, Марина не выходила. Лицом она стала желта, а глаза словно в себя смотрят.
Пошло все вкривь и вкось. Степан все чаще пропадал до глубокой ночи, а бывало, что и вовсе до утра.
Вызвали его в райком. «На исповедь», — сказал Степан, хмуро посмеиваясь. На деревне стали судачить, что подыскивают замену и председателем ему не быть.
Степану с того времени, видно, стало все равно. Почти каждый вечер шел в знакомую баньку, будто к долгожданному отдыху.
Доре было жалко брата и страшно за него. Как-то решилась — пошла к Пантюхе. Уже взялась было за скобу, чтоб войти, как услышала пьяную Пантюхину матерщину и замерла. Она так и простояла за дверью, не смея войти и невольно слушая пьяную беседу собутыльников. «Ты по стерве своей не суди, — возражал Степан. — По другим суди». — «Опять ты про свою, про фронтовую… Слыхали! А, к примеру, вразумительно это: приехала — уехала? Чего ж она? Не-е… Ты, Степан Митрофаныч, не тово, не утверждай… Ежели бы, сказать к примеру, моя шельма заявилась, убил бы теперь… Так я понимаю!» — «Перестань», — сказал Степан. — «Эт-то можно, — согласился Пантюха, но, вопреки своим словам, продолжил: — А ты не по-мужски все совершил, Степан… Ей богу! Какого черта ты поволок ее к себе домой? Скажем, она баба с интересом. Верно! И нашла тебя, к примеру. Хорошо! Так ты тащил бы пока ее ко мне. Рази мысленно сразу домой? Али ты не в своем уме был?» — «И верно, что не в своем. Приехала и будто точку поставила мне в жизни! Можешь ты понять? С Мариной не любовь у меня — жалость одна». — «И давай уезжай, чего тут резину тянуть?» — «Легко сказать… Колхоз-то не бросишь так — с бухты-барахты…»
Читать дальше