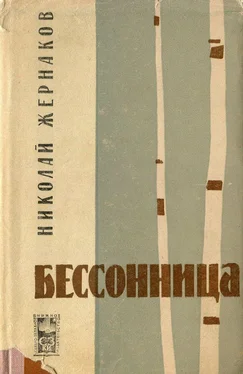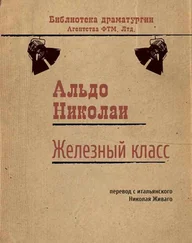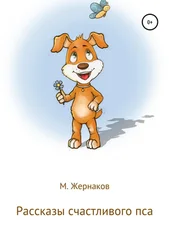В крошечном окошечке баньки Пантюхи Рябого медью плавится свет. Изредка его отуманивает чья-то тень — видно, в баньке не спят. И верно: сквозь стены на улицу рвется старинный напев. Федот остановился: это же его любимая песня! Для Федота она всегда как-то сливалась с родными полями, с весной, с солнцем над Шеньгой, с небесным журчанием жаворонка.
У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А у темной ноченьки
Им и счету нет.
Федот не удержался, на миг припал к окошку, увидел: за маленьким столиком сидит и в песне широко раскрывает рот Пантюха Рябой; брат откинулся затылком к стене; рядом Марина… Она в плаще, в платке, точно заскочила сюда на минутку.
Федоту сразу стало почему-то зябко. Он пошел прочь не оглядываясь. «Ну, Марина! Что же ты — на похороны приехала или к Пантюхе в баньку слушать пьяные песни?»
Федот прибавил шагу, словно расстояние могло избавить его от раздумий.
Дядька Валей был там, где Федот и думал его найти. Он сидел в карбаске, наполовину вытащенном на берег, и упрямо смотрел на воду.
Федот и не представлял себе его иным. Валей был сдержан, как всегда, даже не встал. Сказал только: «Здравствуй, Федот Митрофаныч!» да кивнул на свободное место рядом с собой.
— Доброй ночи, дядя Валей. Что сидишь тут?
Старик не ответил. И эта медлительность в его действиях, и вся давно знакомая фигура Валея были так близки и понятны Федоту, что все там, в баньке, сейчас уже не представлялось почему-то кощунством: жизнь-то не остановилась. Каждый продолжает идти своей дорогой. Спорить с этим — пустое дело.
— Вот так, — Валей словно угадал его мысли, — была и нету. Он покашлял, как поперхнулся. — Еще днями, поутру как-то, встретилась мне: мережи, мол, поедем ставить. Щука, мол, в кусты пошла. — Валей опять хрипло покашлял. — Вот и уехала…
Федот торопливо закурил. Валей будто забыл о нем, долго молчал, не отводя глаз от воды, наконец сказал:
— Ну, пожалуй, пойду, а то холодит. Холодит… Да.
— Дядя Валей, я возьму карбаска на час?
— Бери… Хошь на всю ночь бери. Весла-то на подволоке, — сказал Валей и ушел в избу. Федоту вдруг тоже захолодило от реки, с той стороны, где только что сидел старик.
Не странно ли нестись весеннею ночью по лугам, укрытым водой, как стеклом, с маху налетать на мели, втыкаться карбасом в кусты ивняка, с трудом выдираться из цепких корявых веток и слушать всхлипы воды за кормой, сонную капель с туманных кусков рябины…
Федоту хотелось бездумья, но это было не в его силах.
На востоке чуть побелел горизонт. Вот-вот начнется рассвет. Уже первая утка звала селезня; уже редкий туман медленно сползает с разливов.
Федот заехал бог знает куда. Огляделся: места знакомые. Высокая согра, вся в непролазном шиповнике. За нею что-то чернеет, кажется, доильная изба? Точно, вон куда занесло его!
Ткнулся карбасом в берег под согрой. Напролом, сокрушая ногами шиповник, полез к избе. Колючки драли одежду, не пускали. Но он прошел тогда, пройдет и сейчас; пусть еще раз оцарапает ему сердце прошлым.
Со всех сторон избы половодье. Стекло в окне выбито, двери настежь, на полу мусор, гнилое сено. На стене плакат.
Подошел вплотную — все еще темно — вгляделся в выгоревшие чернильные буквы, не поверил глазам: «Доярка Агафья Егоровна Кокорина за июль надоила четыреста килограммов молока от коровы. Следуйте ее примеру!»
Мать не работала уже три-четыре года! Зачем же он висит тут?
Всмотрелся: изба заброшена давно. Обвалился потолок, выгнил угол; ни стола, ни скамьи.
«Доярка Агафья Егоровна… Старый плакат все еще бережет твою трудовую славу, люди плачут у твоего гроба… А дети? Дотлеет на ветрах и непогоде бумага, догниют и эта изба, и та — в Кузоменье, Кокоринская родовая… Что тогда?»
Долго сидел на подоконнике, думал о нелегкой материнской судьбе, о своей трудной жизни, но в сердце не было сейчас обиды на людей. Он вдруг представил себе Пантелея Пестова, которого жизнь сломала, кажется, до конца. А у него, Федота, поводов спиться было много больше, чем у Пантелея. Не меньше их было, чтоб умереть от горя и обиды, и у матери… И вот — плакат: «Доярка Агафья Егоровна Кокорина… Следуйте ее примеру!»
Федот внезапно понял, что, думая, он неотрывно глядит на крюк в потолочной балке, который и сейчас торчит так же, как много лет назад. «Эх, Марина, — прошептал он, казалось, совсем не к месту, — видно, все забыла, что было пережито…» Повинуясь безотчетному чувству гнева, он ухватился за крюк, с силой согнул и, вырвав вместе с трухлявой щепой из гнезда, швырнул его за окошко.
Читать дальше