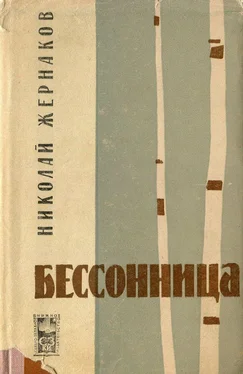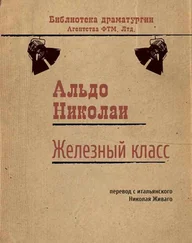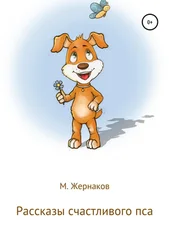Наконец, вот он — смотровой колодец: сруб вровень с землей, закрытый деревянным щитком. Щиток по щелям пророс травой — сто раз пройдешь днем и не заметишь. Ай да Тася!
Открыли не без труда. Как узнать, глубоко ли?… Анисимов повис на руках, вцепившись ими в верхнее бревно сруба, и… булькнул ногой в воде.
Почти неделю лазили они с Тасей по ночному смертному склону: немцы часто строчили по нему, будто решили именно здесь освободиться от патронов. Изредка с Тасей уходил политрук, но никто другой: слишком дорога была вода, чтобы доверить ее в самом начале в чьи-нибудь неумелые руки. Еще не обильная пока струя потекла и в другие роты.
За эту неделю ночами солдаты прорыли траншею почти в человеческий рост до смотрового колодца. На день ее хитро маскировали. Вход в траншею оборудовали под землей, прямо из блиндажа Анисимова. Немцы по-прежнему орали: «Рус! Вадичка хочешь?» Солдаты только посмеивались.
Тася совсем изменилась. Округлились шея и плечи, заревой румянец зажегся на щеках, глаза повеселели. Солдаты из всех взводов набивались к командиру роты в посыльные, чтоб только заглянуть по пути в землянку Таси. Политрук не шутя стал советовать Анисимову отправить девушку поскорее в тыл.
— Отправлю… Кому она мешает? — краснея отводил глаза в сторону Анисимов. — Фрицы не лезут пока…
— Дурак! Молодой дурак, — вдруг тихо сказал генерал.
Шаканалиев не удивился неожиданной фразе. Точно такую же он уже слышал в памятный вечер на харьковской квартире Анисимова.
— Полноте, Михал Михалыч, — так же тихо обратился он к генералу. — Зря вы себя вините. Что же можно было сделать — война!
— Помолчите, полковник! — сурово откликнулся Анисимов.
Утром пришел приказ: в ночь незаметно отойти на новый рубеж. Анисимов не видал этого дня — так быстро он пролетел. Вечером прилег: устал, крутился как белка в колесе. Но сон не приходил. Думы все о ней, о Тасе. Скоро надо проститься. Она жила теперь рядом в землянке. За последние дни почти перестала заходить в блиндаж. Как видно, Анисимов выдал себя с головой: он совсем терялся, когда встречался с ней взглядом.
Тихонько скрипнула дверь. Анисимов замер: он по дыханию понял, кто вошел. В темноте прошуршали шаги к топчану, холодные пальцы нервно пробежали по груди, коснулись лица… Впервые позвала по имени:
— Михаил…
Невероятная робость сковала его. Не мог поднять рук, оторвать их от топчана. Тася прилегла к нему грудью, прижалась тихо, настороженно. Только пальцы скользили по щеке.
— Не молчи, — тревожно прошептала она, — ведь завтра навсегда.
«Милая… Сама пришла. Сама… Что же делать? Как я ждал ее, а теперь не смею и обнять… Не могу. Война ведь. Война!»
Наконец, отчаявшись, махнул рукой: «За что же я, идиот, обижаю девушку?!» — Молча потянулся к ней. Но Тася по-своему поняла это движение. Как пружина распрямилась рядом с топчаном.
— Не думайте… Не навязываюсь, — со злыми слезами в голосе зашептала она. — Можете успокоиться, товарищ лейтенант…
И только двери на петлях спели: ушла.
А глубокой ночью последний раз пошли за водой. К Тасе подошел политрук.
— Хватит! Недоставало, чтобы вас шальная пуля укусила напоследок…
Она посмотрела на Анисимова. Тот развел руками.
— Что ж… Пусть идет.
Тася пошла впереди, как в первый раз. В десяти шагах от колодца в лицо им ударил свет прожектора: повисли над траншеей ракеты.
Засада…
Анисимов очнулся в медсанбате и сразу забылся опять. Вторично пришел в себя в тылу, в эвакогоспитале. О девушке Тасе здесь ничего не знали.
— Дяденьки, чай пить, — окликнул из-за куста Мишка.
— Чай? — оглянулся генерал. — Это ты заказал Шукурбек?
— Может, в самом деле выпить чайку, Михал Михалыч?
Генерал подошел к Мишке, некоторое время глядел на него, думал. Потом сказал:
— Чай так чай… Поди, Шукур, крикни Алексея.
И шутливо натянул Мишке козырек на самый нос.
— Веди, тезка!