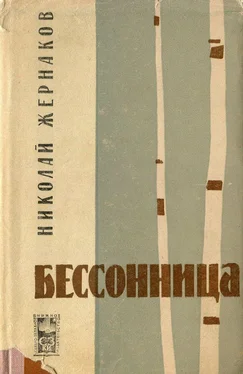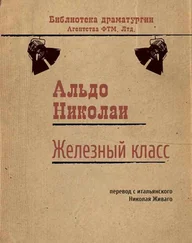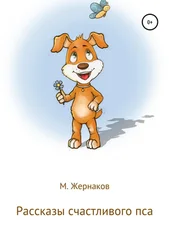Грузовик завалился набок. А назавтра Степан как ни в чем не бывало погнал трактор на работу. «Испугался, что ли, не пойму и сам: не мог завести вчера, хоть что хочешь!» — оправдывался он и отводил глаза в сторону. Федот слушал недоверчиво.
Да, Степан не забыл. Но не такое уж это преступление!
— Вспомнил? — еще раз спросил Федот, все так же непонятно усмехаясь.
Вечер словно нагнетал тишину вокруг братьев. Казалось, немыслимо было молчать, но чем больше они говорили, чем больнее и обиднее становилось обоим, тем больше возникало перед ними картин, о которых лучше было не вспоминать.
Последние слова брата заставили Степана вскочить. Можно было подумать, что он бросится драться, так страшно исказилось его лицо. Но словно решившись на крайнее, что он мог сделать сейчас, Степан вдруг резким движением натянул кепку на самые брови и стал спускаться с «галдареи», так ничего и не сказав больше.
И опять нет брата. Словно не Степан Кокорин, а кто-то чужой и неприязненный торопливо уходит через соседний двор по тропинке. Вот он обогнул болотце, скрылся в баньке Пантюхи Рябого. Зачем? Неужели Степан нисколько не изменился за все эти годы?
Скрипнула дверь у Подъячевых, показалась Марина. Она тоже быстро обошла болотце, но подошла к баньке с другой стороны и встала за углом. Наверное, следила за Степаном.
«Ой, Марина! Как же можно забыть все?! Неужели ты не на похороны приехала, а только ждала случая встретить Степана?»
Снизу тихо окликнули:
— Федот! Спустись-ко, перекуси чего-нибудь…
Сестра. Не пошевелился, сказал только:
— Не хочу я, Дора, подожди.
— Надо… С утра ведь не ел ничего.
— Не хочу. Потом.
Дора не стала настаивать. Ушла в избу.
Хорошо поговорить с матерью, вспомнить все, что вместе прожито.
Ноги гудят от дневной суеты. Дора подвинула стул, подсела, глядя неотступно в дорогое лицо, старалась восстановить в памяти прошедшие годы, и это доставляло ей сейчас какое-то горькое удовлетворение. Словно она хоть теперь могла как-то загладить вину перед матерью, вымолить прощение за то, что должна была, но не успела сделать для нее при жизни доброго.
Во второе лето войны Дора закончила зоотехникум и тут же получила под свое начало молочную ферму колхоза, которой так гордился ушедший на фронт дядя Егор.
С первых дней войны где-то воевали Федот и Степан. Письма от них приходили редко. А зимой сорок третьего года на Федота пришла похоронная: погиб, как герой, в разведке.
Мать к тому времени была уже председателем колхоза, горевать да слезы лить ей некогда. На этой работе ни дней, ни ночей не хватало.
Дора видела, какого труда стоит матери вести артельное хозяйство и держаться бодро среди людей, и всячески старалась помочь ей в этом. По молчаливому согласию они не заводили о Федоте жалостливых разговоров, слез друг другу не показывали.
Но иногда видела Дора, как по ночам мать снимала с грядки жестяную коробку из-под печенья, ставила ее себе в колени и долго сидела на кровати в одной рубахе, замерев над этой коробкой. В ней мать хранила аккуратные сыновние письма-угольнички.
Так и шла трудная, но наполненная сознанием своей нужности людям жизнь.
И вдруг все это разрушилось в один час. Поздним летним вечером в избу Кокориных пришел человек, предъявил матери ордер на обыск, но ничего не искал, спросил только фронтовые письма сыновей, выгреб их из жестяной банки и унес. На протесты матери пояснил неохотно: «Нехорошо у вас получилось. Сын ваш Федот не убит. Он к врагу перебежал, да поймали».
Никогда не забудет Дора, как мать целые сутки лежала ничком на кровати, не слушая никаких утешений. А когда встала — прежней Агафьи Кокориной уже не было: постарела на десять лет.
Уже назавтра вся деревня знала новость: Федот — изменник родины. Точно тень легла вокруг дома Кокориных. Реже стали заходить соседи, в лавке, на улице, в поле умолкали люди, как только появлялись Дора или Егоровна.
Это матери было тяжелее всего. Те же соседи, которые еще недавно, когда на фронт ушел председатель колхоза, тянули на собрании руки и настойчиво требовали: «Пусть командует Егоровна, никого не хотим больше!» — эти же люди на другом собрании стыдливо прятали от нее глаза, послушно голосуя за «варяга», привезенного из райцентра. А тот быстро разобрался в тяжкой вине семьи Кокориных: Дору перевел на разные работы, обеих лишил «пайка» — куска хлеба, который выдавали в лавке сельпо. В колхозе на трудодни зерна тогда совсем не причиталось.
Читать дальше