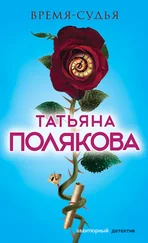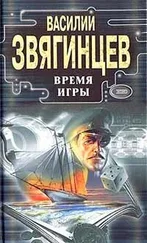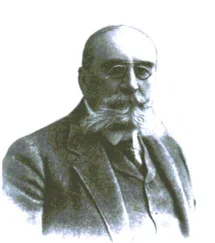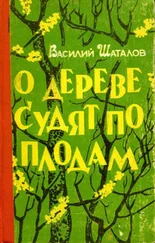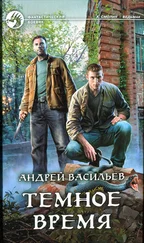— Отпустим всех, кто не захочет у нас работать.
— Ты с ума сошел. Это же тебе не средняя полоса, а север. Разбегутся все, — сказал Мезенцев.
— Нет, — заверил Кузнецов, — уйдет не более четырех человек: два заместителя и две приближенных к ним дамы — Чечерова и моя однофамилица Кузнецова, и то они уйдут, если мы дадим им приличные характеристики и ничего при этом не добавим доверительно при телефонном разговоре.
— Ну ты, брат, и самонадеян, прямо позавидуешь, — усмехнулся Мезенцев. — А замена у тебя есть? — поинтересовался он.
— На заместителей замена есть, это Александр Александрович Ямов и Анна Александровна Хромова. Вы их знаете и, я думаю, возражать не будете, остальных возьмем из числа народных судей, а на их место пригласим перспективных молодых специалистов. Для этого мне надо снова слетать в Свердловск. Министр разрешил нам брать хоть 10 человек. Вот мы и воспользуемся этим правом, увезем к себе весь цвет из числа выпускников этого института.
Секретари крайкома с этой позицией Мезенцева и Кузнецова согласились. Руководство крайсуда обновилось, и с тех пор многие годы суд работал спокойно, без жалоб и конфликтов.
Глава 10
Людей судить — не дрова рубить
В конце пятидесятых годов секретарь одного из обкомов партии написал на имя Н.С. Хрущева записку, в которой утверждал, что в исправительно-трудовых учреждениях страны и тюрьмах содержится много лиц, необоснованно осужденных к длительным срокам лишения свободы.
Записка была рассмотрена Президиумом Верховного Совета РСФСР, который поручил местным органам власти тех территорий, где имелись исправительно-трудовые учреждения, создать специальные комиссии, наделив их правом пересмотра дел в отношении лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений, не представляющих большой опасности для общества.
Кузнецов в то время работал еще в Сибирском областном суде, и по рекомендации председателя этого суда он был назначен председателем одной из 12 комиссий, пересматривавших дела в лагерных пунктах Сиблага. За шесть месяцев работы комиссия пересмотрела тысячи дел и не внесла изменений лишь в треть приговоров, по остальным же снизила осужденным меру наказания, иногда до пределов отбытого.
Беседы с тысячами заключенных и изучение их личных дел позволили Кузнецову утвердиться во мнении, что чрезмерно суровая мера наказания зачастую не достигает цели — перевоспитания и исправления осужденного. У таких людей длительный срок наказания создает ощущение бесперспективности дальнейшей жизни, они легче поддаются влиянию рецидивистов, внушающих им, что от работы и кони дохнут, советующих не выкладываться на работе, а лучше переходить к ним в услужение, т. е. быть «шестерками» на языке лагерного жаргона.
Кузнецов видел сотни случаев, когда в одном и том же исправительно-трудовом лагере отбывают наказание с похожими биографиями два человека, осужденные за совершение одинаковых преступлений, но одному суд определил наказание год, а другому пять-шесть лет лишения свободы, или одному два года, а другому — десять лет. Это крайне плохо влияло на процесс перевоспитания тех, кто считал, что ему мера наказания судом определена чрезмерно сурово.
Происходило все это не потому, что в одном случае судья был жестоким человеком, а в другом, наоборот, очень либеральным. Причина этого была в другом. В советское время среди многих ученых-криминалистов и практиков бытовало мнение, что сократить преступность можно методом устрашения, применяя суровые меры наказания к лицам, совершившим преступления. Эта точка зрения поддерживалась партийными и государственными органами. Поэтому время от времени принимались различные документы об усилении борьбы либо с преступностью вообще, либо с каким-то отдельным видом преступления, например с хулиганством, самым распространенным в то время правонарушением.
Сразу после принятия такого документа начиналось что-то вроде кампании по борьбе с этим злом. Органы милиции и прокуратуры отчитывались, на сколько процентов больше они возбудили, расследовали и передали в суд дел, а суды, в свою очередь, докладывали по инстанции, на сколько процентов усилилась карательная практика судов в целом либо по той или иной категории дел. Если кто-то из практических работников пытался доказать, что в борьбе с преступностью нельзя оценивать работу судов в процентах, то такую позицию не поддерживали, а наоборот, подвергали осуждению.
Читать дальше
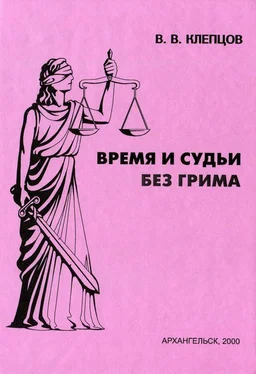

![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/29609/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik-thumb.webp)