Надо спорить, выдержать натиск наиболее сильных мальчиков, и, только оставшись один, Душан, успокоившись, чувствует, что на его «я» никто не посягает, и что только с этим ощущением «я» и рождаются самые интересные мысли, и что только так, только ощущая себя внутренне цельным, можно понять окружающее, выделяя и отделяя его от себя.
Раньше, когда он еще не ревновал к своему «я», не чувствуя его, он не чувствовал и окружающее, потому что был слит с ним в единстве, и так до тех пор, пока не стал он замечать мрак отделяющегося от него внешнего мира, который стал тревожить своей загадочностью и пугать. И для того чтобы мог он понять тревожащее окружающее и избавиться от подавленности и растерянности, и родилось в нем это защитное чувство «я». Так, духовно окрепшему, с неотнятым «я», ему будет легче рассмотреть внешнее вокруг и понять.
Странно! Значит, понятливее всего и мудрее он был лишь в младенчестве, когда внешнее и внутреннее было в нем в единстве, и для чего надо было им отделяться потом, чтобы понял он собственную недогадливость и смутился? В своем радостном, задорно–мечтательном возрасте жил он как трава, как птаха божья, ничего не требуя и никого не смущая, и, может быть, в отместку за эту добродушную нетребовательность, неприхотливость и стало удаляться от него окружающее, чтобы мог его вновь познать и принять, если удастся. Для чего дано это новое, второе познание всего вокруг, если в первый раз, пусть неосознанно, только чувствами, внешнее было уже принято? Для чего ему надо отделяться вновь и мучить загадками, если уже раз, в утробе матери, все внешнее и внутреннее, словно забыв на время о своих беспокоящих вопросах, объединилось, чтобы в этом умиротворении родился он и жил, убаюканный тишиной, ясностью и простотой, которая и есть самое глубокое понимание?
Теперь, когда его личность и окружающее стали друг против друга, чтобы внешнее испытало его, сразило, те первые, непосредственные чувства от ощущения мира ушли, и началось духовное, умственное понимание, может быть самое ненадежное, видимое. И не отсюда ли страдания? Непонимания? Не отсюда ли стремление делить и членить, чтобы вновь постигать утерянное навсегда целое через его части, через прошлое, воспоминания, сравнения своего и чужого?
И первое, что он сравнивал, привыкнув немного к школьному быту, — дворы, свой и здешний, князя Арифа. Раньше, когда прошлое в нем не было отделено от настоящего, в сплошном протяжении времени, Душан не чувствовал тяжесть пережитого, пока однажды Аппак не шепнул ему перед сном: «У тебя есть воспоминания, Душан? Ну, то, о чем ты чаще всего думаешь?» И этот вопрос Аппака был как бы той последней чертой, той догадкой, после чего время и расчленилось.
Вспоминал он в то время чаще всего свой двор в его тихие, молчаливые дни. Отец стоял с лопатой в палисаднике, и на ручке лопаты, на месте, где треснуло дерево было синее пятно — об этом он думал, желая вспомнить, какая была эта лопата, в деталях, еще одну вещь из домашних вещей, которая бы сейчас как–то согрела, но ничего не мог вспомнить, кроме этого треснувшего места с краской.
«Аппак сказал очень точно, — решил Душан. — Думать — это значит вспоминать. А о том, чего не пережил, не думается… бесполезно…»
Думал о том дне, когда двор неожиданно открыл себя для чужих, шумный и серый от пыли, чтобы принять тех, кто пришел почтить усопшую бабушку. И был он удивительно похож на этот двор интерната, разгаданный, суетливый и неуютный, будто продолжение его домашнего двора. Что дано ему и в какой последовательности — смерть бабушки для того, чтобы он увидел домашний двор таким, как здешний, и заранее смирился с будущей своей жизнью? Или, может, смерть бабушки никак не повлияла на его судьбу и в разгаданный, как будто проклятый за что–то двор князя его все равно послали бы жить?
Вот так, через сравнение дворов, Душан проникся ощущением разделенного времени — на прошлое и настоящее (прошлое — это воспоминание, которое заставляет думать), и это было для него еще одной важной ступенью возраста, перехода из детства в отрочество, когда настоящее тревожит, требует напряженного постижения. И даже сам внешний облик Душана с нелепым длинным и несоразмерно худым телом, угловатостью выражал это внутреннее борение и изменение. И очень нужно было для него это ощущение прожитого как успокоительное, ибо Душану, так трудно ладившему с людьми, приходилось искать утешения в прошлом, память отбирала для него все лучшее, а неприятное, обиды Душан старался быстрее позабыть. Так что все у него было сложно, он не только иронизировал когда–то над собой пяти–шестилетним, но и вспоминал теперь это время как самое дорогое.
Читать дальше
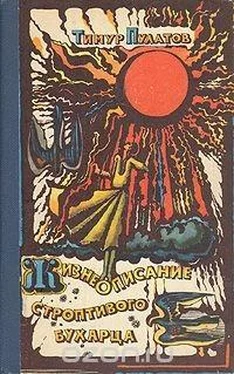





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



