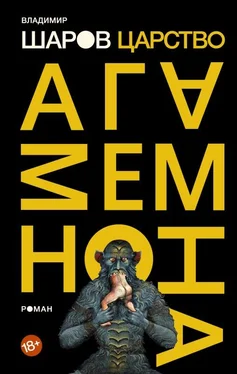5. Надо реабилитировать Смердякова от гнусности Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнетом, попутно рассказав всю правду о поработителях-богах. Разумеется, Достоевский был бы целиком на стороне первого из помещиков – Михаила.
Он бы предпочел пролить реки крови смердов, лишь бы продлить царство помазанников божьих на земле.
Выходит все-таки невесело: Я – против всех.
6. А Достоевский?
Этот откровенный защитник православия, самодержавия и народности. Он еще меньше стал бы думать, чем Толстой.
Какую силу презрения нужно было иметь в груди Достоевскому к трудовому народу, чтобы нарисовать два типа: Ивана Карамазова и Смердякова?
Теперь время смерда. Сам смерд берется решать свою судьбу.
Надо думать, что скоро появится художник сильнее Достоевского и нарисует нам тип великого смерда, великого Смердякова, вкусившего от древа познания добра и зла, и трусливого, гадкого помещика буржуа, чувствующего, что ни сила небесная, ни сила земная не могут спасти его от сурового приговора истории. История дала заказ. Найдется достойная рука выполнить эту историческую миссию.
7. Ильич. Достоевский и то запутался бы, а ты вон как простенько раскидываешь весь мусор над правдой.
Следующий раздел “КОНЕЦ РОМАНОВЫХ”. Раньше он шел за открыткой “Мост через Тобол (Курган)”. В нем четыре выписки.
1. Мясников: А я, знаешь, как думаю, тов. Жужгов?
Жужгов: Как?
Мясников: Это сегодняшнее дело – начало конца всех Романовых, что есть в РСФСР. Ведь если можно расстрелять Михаила, то тем более можно всех других. И ты увидишь, как полетят головы всех Романовых.
“И это дело”, – ласково вставил Иванченко.
Я в глубине экипажа, затянутого сверху, на хороших мягких рессорах и пружинах сиденья, мягко колышусь из стороны в сторону. Сильная лошадь спорой рысью добежала до подъема на Горки, и Жужгов, пустив ее шагом, оборачивается ко мне и спрашивает: “Ты сказал, что сегодняшнее дело есть начало конца всех Романовых, что есть в РСФСР? Как это надо понимать? Ведь мы официально не расстреливаем Михаила, а он бежит”.
2. Это просто. Возьмем, например, Алапаиху. Там много князей. Услышат они, что Михаил бежал, и они решили, что его пристрелили и объявили, что он бежал, а другие поверили, но и те и другие согласны с тем, что князей беречь дальше не стоит, и истребят. Николая же с семьей можно расстрелять по суду, официально. Так, наверно, и будет. А мы с вами убираем психологическое препятствие к этому истреблению.
3. И это объяснение, если его понять, как нужно и должно, будет объяснять дальнейшие события: уничтожение всех Романовых. Я убрал не только формальное препятствие в виде предписаний, но и психологическое препятствие у всех товарищей. После того как бы ни поняли исчезновение Михаила, но всем Романовым крышка. Я уже говорил это Жужгову.
“А ведь это правда, Ильич, а я-то думал, что тут и Достоевскому не разрешить этой психологической задачи”.
4. Теперь прошло семнадцать лет. Ни раньше, ни потом я ни с одним алапаевским товарищем не встречался и не говорил на эту тему, ни после “побега” Михаила и ни после “побега” князей с Алапаевского завода, – я не спрашивал никого из них, почему они это сделали. Но с первой минуты был уверен в том, что правильно понимаю события. Так оно и было. В этом сказалась историческая неизбежность гибели Романовых.
Разобравшись с выписками из Мясникова, вернемся к телегинскому делу. Расследование продолжалось, и, во всяком случае, с моей точки зрения, маразм его нарастал.
На допросе от 16 апреля 1954 года Жестовский снова стал объяснять Зуеву, что каждый день Тротт, стоило якутке уйти из дома, начинал жаловаться, что это не обнаженная натура, а недоразумение. Что ни делай, в ней не праздник жизни, который ему заказан, а недоумение, обида бабы, которую раздели, а для чего – никто, главное, она сама, не знает. Как дурак эту обиду он и рисует.
Сидит она или лежит, в какую бы позу он ее ни поставил, как ни выгнул и ни свернул, – якутка убеждена, что нехороша собой и никому не нужна. Оттого всё время готова расплакаться. Если спросишь, что не так, скажет, что ошибся, она в порядке, или начнет объяснять, что в мастерской сквозняк, она замерзла и опять, чтобы я не обращал внимания, просто вспомнила мать – как та в Житомире умирала у нее на руках.
“Но всё это вранье. Она плачет, потому что я велел ей раздеться, теперь она, голая, лежит передо мной, красивым мужиком, а я ничего с ней не делаю. Как водил кистью по холсту, так и вожу. От этого она плачет, а совсем не от холода”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу