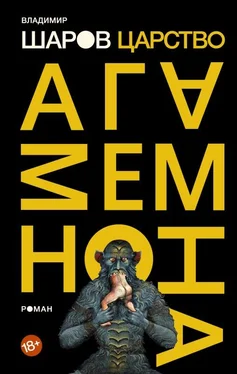Короче, я думаю, – продолжал Алимпий, – если этому Сбаричу от тебя письмишко придет, где будет: так, мол, и так, знаю все твои обстоятельства, оттого и благословляю, сын мой, на возвращение в лоно официальной церкви, – ты, Коля, невесть сколько христианских душ спасешь. – И закончил: – Ведь мучеников уже довольно, кому-то можно и льготу дать”.
“Отец, – говорила Электра, – подумал-подумал и сказал, чтобы принесли бумагу. А дальше, каким способом письмо доставили Игнатию, можно только догадываться, но уже через сутки Сбарич собственной персоной был в Перми. Как только митрополиту доложили, что Игнатий прибыл, Алимпий вышел в приемную, очень ласково с ним поздоровался, но не остался, попросил монашка, чтобы шофер подогнал к крыльцу машину, и, сославшись на дела, уехал. Было ясно, что он понимает, что отцу и Сбаричу надо много о чем переговорить, не хочет мешать.
Едва они остались вдвоем, Игнатий бросился целовать отцу руки, хотел и вовсе опуститься на колени, но отец подобные вещи не любил, как мог остановил. Устроившись за тем же столом, отец слушал, а Сбарич рассказывал, что было с ним за эти двадцать лет; понятно, что то и дело разговор возвращался к Тайшетской зоне, которая их свела. Одного за другим вспоминали отбывавших с ними срок, кого уже не было на свете, налив рюмку, поминали.
Чаще других разговор возвращался к их товарищу по несчастью – киевскому поэту, который так и не дождался свободы: всё, что осталось от бедняги, – несколько стихотворений, чуть больше разрозненных строк и строчек. Тогда в лагере, едва его тело отнесли в морг, они, всё еще надеясь, что стихи записаны, перерыли пенатовские шмотки, добрались до самых укромных тайников и заначек, но единственное, что отыскалось, – пять страничек с планом реорганизации издательства «Рiдный край», в котором он работал до ареста и куда мечтал вернуться после освобождения. Стихов никаких не было, не было ни одной строки.
Сейчас здесь, за богатым столом, Жестовский и Сбарич, помогая один другому, вспоминали, как он ходил вместе с ними от барака к бараку и читал то, что сочинил за последнюю неделю. Общими усилиями восстановили еще с десяток стихотворений, радуясь, по очереди читали их друг другу. Но дальше дело встало.
Вспомнили и Лупана. Отец боялся о нем заговорить, как мог и Лупана, и Сбаричеву измену обходил стороной. Игнатий сам на него вырулил. Сказал, что всегда считал, что в нем борются два ангела, добрый и злой, то один пересиливает, то другой. Когда освободился, жил по Лупановой правде, думал наверстать отнятое лагерем. Блядовал, благо бесхозных баб вокруг море разливанное. Однако скоро такая жизнь и сам себе такой вконец опротивели.
«Но и без того, – рассказывал Игнатий, – Лупан в памяти стал стираться; конечно, пятнами то здесь, то там что-то и сейчас проступает, но уже смутно, скучно». Другое дело – то, что Игнатий слышал от моего отца, – продолжала Электра. – Тут, наоборот, каждый день будто тряпочкой протирают. Не просто всякое слово, а и где, и кому, и как он его сказал. В итоге шаг за шагом отца в нем, в Игнатии, сделалось столько, что, не делясь этим с другими, жить стало нельзя”.
На полях
Разговор об Игнатии я бы запомнил и без записи. Дело в том, что, вскипятив очередной чайник, поставив на стол новую банку с вареньем, Электра сказала: “Всё, что говорю, как вы, Глебушка, понимаете, я знаю от отца. В Зарайске, уже после смерти матери, он мне рассказал и как они с Игнатием сидели у Алимпия, и как поминали Пенатова. Как раз тогда я просила отца подобрать мне хороший приход. Вот и пришлось к слову. Но о Пенатове я не только от отца слышала, – продолжала Электра, – Кошелев тоже часто его вспоминал, и здесь, Глебушка, для вас нежданный подарок; не сомневаюсь, вы его оцените”, – проговорила она со значением.
Дальше всё было по-театральному. Отодвинув стул, Электра вышла из ординаторской, через несколько минут вернулась. В руках у нее был том очередного французского детектива, без которых она не засыпала. Держа его в руке, она, хоть немного запыхавшись, но с прежней торжественностью заявила: “Вот, принесла”, – и, устроив детектив на маленьком столике возле дивана, принялась объяснять, что Кошелев, уже уезжая из Москвы, вдруг ей говорит, что хочет оставить на Протопоповском три ценных раритета.
“Вез он их моему отцу, но с отцом, так получилось, разминулся, и сейчас убежден, что будет правильно, если они останутся у меня, его дочери. Сказал, что речь идет о трех листиках папиросной бумаги, на них его рукой записаны кондаки сочинения Пенатова. Сделаны они были для литургики, которую тогда в лагере писал мой отец. Запись того же дня, когда кондаки были им прочитаны, так что за ее точность он, Кошелев, ручается. Сказал, что на зоне кондаки провели целых десять лет, и добавил, что они были как заговоренные – никакой шмон их не брал. А после сорок седьмого года, когда наконец освободился, кондаки вместе с ним вышли на волю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу