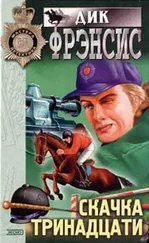— Хочешь тапочки поцелую? — взмолился я.
— Лучше сходи в сад, принеси еще яблочек.
— Радость моя, пойдем вместе, рука об руку!..
— Нет!.. Нет!.. Ни за что! — на лице ее ужас, голос дрожит. Я долго не мог понять, почему она так панически боится веранды. К окнам, особенно к раскрытым, она даже не приближалась. И вот однажды утром, когда, утомленная допросом, она заснула мертвым сном на раскладушке, а я, тоже усталый за ночь, распахнул выходившее на улочку окно, кое-что прояснилось. Чуть не подавившийся собственным зевком, я увидел съезжавшую с горы, на которой белел правительственный санаторий, инвалидскую коляску, а в ней — кого бы вы думали! — хваченного героическим «кондратием» товарища Комиссарова — парторга, полковника, плагиатора, моего, пропади он пропадом, бывшего ученика.
Коляску то ли толкал, то ли наоборот придерживал, чтобы не укатила к едреней фене, товарищ в полувоенном кителе, в хромовых сапогах, бритый, с одутловатым бабьим лицом. Несмотря на жару, шея у него была повязана белым шифоновым шарфиком.
Я этого пидора сразу узнал.
Передо мной был антипартийный — начала 50-х — Г. М. Маленков, собственной персоной.
Инсультно перекошенный поэт-пародист, пуская слюни, любовался окрестностями. На Кондратии были трикотажные курортные штанцы и майка с надписью:
ЖИТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ, СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ.
СЕРДЦЕ НАШЕЙ ПАРТИИ БЬЕТСЯ В МАВЗОЛЕЕ!
Моя неискоренимая уже привычка к литературному наставничеству и тут, в Задверье, дала о себе знать. «Что ж ты, сучий потрох, делаешь, — мягко пожурил я отставного мента. — Ну, хрен с ним, с Великим Князем, от него, как говорится, не убудет, а Сталина-то за что?! А еще, елки зеленые, коммунист называется!». Далее я в тактичной форме напомнил этому несостоявшемуся А. Иванову-не-Рабиновичу, что присвоение чужих текстов, даже в нашей родимой Беспределии, квалифицируется как плагиат, и что в Уголовном Кодексе есть специальная и очень даже занятная статеечка на этот счет.
Задетый за живое Кондратий страшно взволновался, замахал руками, замычал что-то нечленораздельное и, кажется, в рифму. Он достал из запазухи большой, с сургучными печатями, пакет и через верного соратника вышеупомянутого Вождя и Учителя передал его мне, Тюхину.
— В санатории изволите отдыхать, Георгий Максимилианович, — принимая всуевское послание, вежливо поинтересовался я. — Ну да, ну да — притомились, поди, после «ленинградского дела». Сейчас, простите, куда?.. Ах, на бережочек, кровавые свои рученьки в морской водице отмывать!..
Побагровев, бывший член Политбюро уже открыл было рот для отповеди, но вечно сующийся куда не следует попугай Петруччио и тут, подлец, встрял, выкрикнув с крыши такое с детства памятное: «Маленков, бери дубину, гони евреев в Палестину!». Оскорбленный до глубины души палач вытаращился и, пробормотав нечто совершенно несусветное, чуть ли не «Доннер Веттер!» — злобно пихнул коляску ногой.
Бренча и подпрыгивая, коляска с сидевшим в ней злосчастным Кондратием Комиссаровым покатилась под горку, а дорогой товариц Маленков, заложив руки за спину, быстро пошел за ней вслед.
На конверте было написано: «Моему погубителю, лица моего повредителю. Лично!»
Письмецо начиналось эпически: «Февраля двадцатого числа Мне судьба сюрприз приподнесла!..»
Память Кондратию не изменила. Именно 20-го, только не февраля, а вроде бы, апреля восемьдесят не помню уж точно какого года с К. К. Комиссаровым, бывшим моим парторгом, стряслось то, хуже чего, по нашим советским понятиям ничего не было и быть не могло. Очнувшись утром незнамо где, он обнаружил пропажу портфеля, где было все: партийные документы, печать, заявления, жалобы, списки злостных неплательщиков, три с половиной тысячи — старыми еще! — взносов и т. д. и т. п. Когда он пришел похмелиться в ресторан Дома писателей, на нем лица не было. После третьей поллитры оно появилось — скорбное, бурячное-безглазое. «Фашисты-ы! простонало оно — Убили Кондрата Всуева!» — и страшно перекосившись, упало в салат. Увы, увы, это был инсульт.
Не буду подробно пересказывать вам содержание переданного мне товарищем Маленковым пакетика. Господи, каких только пакостей там не было! Ну чего, к примеру, стоила одна эта его идиотская частушечка, воспроизведя которую даже я, убежденный поборник свободы слова, Тюхин, не в силах сдержать негодования:
Иркины в виду имея груди, Сглазил меня Эмский Виктуар! Точно Фучик прокричавши: «Люди, Будьте…» — я упал на тротуар!..
Читать дальше