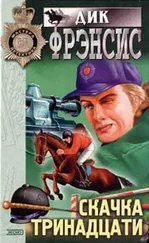Так произошло покаяние.
Потом я рассказал ей про сон и спросил к чему бы это?
— Должно быть к Победе, — подумав, сказала моя хорошая. — К нашей, Тюхин, Победе — всемирно- исторической, скорой и безоговорочной!
В коридоре упал тазик. Мы замерли, прислушиваясь…
В эту же ночь я, Тюхин, Виктор Григорьевич, одному мне известным способом преодолев участок государственной границы под кодовым наименованием «Дверь», обманом и лживыми посулами склонил свою тогдашнюю сожительницу Шизую, Идею Марксэновну, к дезертирству.
Глава шестнадцатая. Райская жизнь при отягчающих обстоятельствах
Когда попугай заорал: «Аве, Марусечка!» — она чуть не упала в обморок.
— Тюхин, — тяжело повиснув на мне, прошипела Идея Марксэновна, — откуда он знает мое настоящее имя? Это кто — это апостол Петр?..
— Это Петруша, он — птица.
— Райская?..
Увы, моя хорошая вбила себе в голову, что умерла. Взволнованная, в белой тунике, сшитой из двух простыней, она всплеснула руками, пытаясь воспарить над неведомой действительностью. Задетая рукавом, китайская ваза покачнулась — и бац! — упала на пол. И тут из сада в холл, скользя когтями по паркету, влетел охламон Джонни. Обезумев от восторга, он кинулся на Идею Марксэновну — с подвывом, с причмоками, слюнявя и писаясь. Он вспрыгнул к ней на руки, как Папа Марксэн в Таврическом саду, и лизнул ее в губы.
— Тюхин, — забыв обо всем на свете, вскричала моя нецелованная, — а это, это еще кто? Со-ба-ка?! Она тоже говорящая?.. — И Личиночка сунула ему палец в пасть. — Тю-юхин! Он даже не укусил меня!.. Это кто — это ангел, Тюхин?..
Взмявкнув, соскочил с кресла рыжий завистник Парамон. Потершись об ее ногу, он поднял голову и совершенно отчетливо произнес:
— Мама!
Идея Марксэновна Шизая, она же — Марусечка, чуть не задохнулась от счастья.
— Ах вы Марксэнчики вы мои! Жмурик, а как тут насчет котлового довольствия! Что значит — в каком смысле! — нам жрать хочется!
И я, Тюхин, эффектно распахнул перед ней битком набитый холодильник вуаля! — и вздох восхищения исторгся из нее:
— Тю-юхин, но этого же не может быть! О-о!.. И ты еще говоришь, что я не в раю, Тюхин!..
В камине потрескивали сухие кизиловые сучья. Идея Марксеновна полулежа, как римская патрицианка, ела бананы, задумчиво, как беременная Джоконда, улыбаясь чему-то. И был вечер. И китайские тени кривлялись на обоях. И впервые за долгие-долгие годы передо мною на письменном столе лежал лист девственно белой писчей бумаги. А когда я нажимал на кнопку выключателя и лампа гасла, сквозь оконный тюль матово просвечивала несусветно огромная и полная, как грудь Иродиады Профкомовны, лунища. И хотелось жить. И, Господи, не знаю почему, но опять верилось, что не все еще потеряно, даже для той страны, откуда проваливаются в небытие Китежи, президенты и мы, Тюхины…
— Жмурик, расскажи мне сказочку.
— Про что?
— Ах, да про что хочешь, только не про войну.
— Не про войну?
И я подумал-подумал и рассказал Идее Марксэновне такую вот совершенно мирную сказочку:
Сказочка Тюхина
Жил-был один сочинитель. Как-то раз он воскликнул: «Эх, однова живем!» — и сочинил самое свое честное, самое не-про-военное стихотворение, которое начиналось так:
Под тридцать мне. Столетье на закате. Все дальше громыхает та война…
Шло время. Сочинителю стукнуло тридцать, потом тридцать три, как, скажим, Иисусу Христу или Илье Муромцу, потом и вовсе — тридцать семь, как А. С. Пушкину, уже и Брежнев классиком стал, а заветный стишок сочинителя все не печатали и не печатали.
— Нет, братцы, тут что-то не так, — как-то раз сказал он себе, — тут, братцы вы мои, призадуматься надоть!
И вот он призадумался и откорректировал начальные строчки стихотворения следующим образом:
За тридцать мне. Столетье на закате. Все дальше громыхает та война…
Война и впрямь громыхала все дальше, аж за Кушкой. Более удачливые сверстники стихотворца уже и Шестинскими стали, а нашего героя Фортуна отчего-то не жаловала. То есть не то, чтобы его не печатали, или там не пускали в загранкомандировки — этаких пакостей Кондратии Комиссаровичи сочинителю не творили. Да и книг он насочинял — воз и еще маленькую тележку. И все, как одна, — про войну, про мир, про дружбу, про советского человека строителя коммунизма, все — не про себя, потому что того самого заветного стихотворения в этих его книжицах не было. «Но почему, почему? Чего они такого в нем углядели?» — думал он, стоя перед зеркалом, уже лысый, уже с почечными мешочками под глазами. «Нет, тут действительно что-то не так!» — и решался, наконец, и выдергивал седой волосок из правой ноздри.
Читать дальше