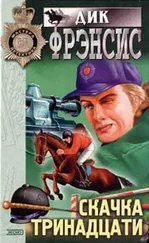Потайные синие дверцы с лязгом захлопываются. Снедаемая нетерпением, она бросает меня на обитую дерматином казенную кушетку и, обдавая дождем брызг, встряхивается, как славянская сторожевая моего соседа Гумнюкова. Я слизывая попавшую на губу капельку:
— Это что? Это спирт?.. Этиловый или метиловый? — испуганно шепчу я.
— Отс-ставить разговорчики!..
Шуршит плащпалатка, брякает амуниция. Мамочка моя милая, да она же… раздевается!
— Минуточку, минуточку!.. Даздраперма Венедиктовна, но я же это… В том смысле, что Идея же Марксэновна… Ой, что это вы делаете?!
— Ты… ты почему еще в штанах?! — дыша страстью, шипит она. — А ну сорок пять секунд отбой!..
Надо ли говорить, что я по-армейски беспрекословно подчиняюсь! Летят на пол куртельник, камилавочка… Со штанами заминка. Веревочка, которой я, страшно исхудав, стал подпоясываться в концлагере, героически срезанная мною с флагштока на плацу, вражеская бечевочка, как на грех не развязывается.
— А ч-черт!
Сверкнув зубами, она хищно нагибается. В поясе отпускает.
— Ну где, где он там у тебя?..
— Ой… в смысле — о-о!.. А нравственность?! Как же быть с нормами нравственности, Даздраперма Вене…
— Р-равняйсь! — подминает она. — Сми-рна!.. И чтоб — как штык!.. Чтобы — стойко, несгибаемо!.. Слы-ыши-иишь?! И чтоб — не рыпаться! А то тут один… рыпнулся… ф-фу!.. так я его вот этими вот… вот!.. вот это я понимаю!.. вот этими… ру… ка… ми!.. я сама… сама! Я сама, Тюхин!.. У-ууу!.. Ф-фу!.. Отстань, дай отдышаться… А ну кончай! Кончай, кому говорят!.. Ты что, сдурел, что ли?! А ведь я ему, гаду, тоже говорила: кончай, Георгий, играться с огнем, измены не потерплю!.. Ой!.. Ой, Тюхин, не балуй, у меня там запалы ввинчены… Жорка, — сказала я, — задушу, если чего, вот этими вот руками!.. Ух!..
— Неу… — зеваю я, — неужто изменил?.. Это кому, это тебе-то?!
— Кабы мне, Тюхин! Кабы только мне! Ну дала бы разок-другой в глаз для отстрастки и помирились бы по-свойски, по-супружески…
— По-супружески?.. Ты это про кого, Даздрапунчик?!
— Про Мандулу, про Жорку, а то про кого же?!
— Про Ма… О!.. О, Господи! — я падаю на пол.
— Вот и я, Тюхин, чуть в обморок не брякнулась! Он ведь что, он ведь, вражина, Родине изменил!
— Ро… Господи, Господи!..
— Да ты не бзди, Тюхин, — приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
— Убила?
Даздраперма гоготнула:
— И в землю закопала! А тебя, дристуна, и убивать не буду — сам когда-нибудь подорвешься: у меня там противотанковая… Слы-ы-шишь?!
…обхвативши голову, постанывая, мучась угрызениями. Господи, Господи!.. Где я?.. Что это за спиртягу она мне подсунула?.. И почему так темно?.. О-оо!..
Я щелкая позолоченной, с гравировочкой: «Д.В.П. от Г.М.» — зажигалочкой. Лестница, дверной звонок с красной пупочкой, медная табличка. Рядом с дверью, на коврике, свернувшись клубочком, спит верный Шипачев. Я перевожу дух…
Ну что, Тюхин, гад, сволочь, подонок ты этакий, — звонить?
Сердце колотится, как дурак в сундуке.
Ну?..
Я нажимаю на кнопку.
Я припадаю здоровым ухом к дверной щели, стараясь расслышать торопливую побежечку, родной топоточек. Господи, как я мечтал об этой минуте там, на жестких нарах концлагеря. Сейчас дверь приоткроется, встрепенутся серые (в меня, в Тюхина!) глазенки и он (она?) радостно закричит в тьму коммунального коридора: «Мама, мама! Наш папка в фронта вернулся!..», и обнимет за левое колено, шалунишка…
О-о!..
И вот шаги… Бренчит цепочка, клацает задвижечка… Уже на полусогнутых, уже готовый привычно сорваться на колени, я замираю… Дверь открывается — Господи, Господи. Господи!.. — и она, моя Идея Марксэновна, вся зареванная, опухшая — нос картошечкой — поддерживая обеими руками несусветный, как из книги рекордов Гиннеса животище, — пеняет мне, аморальному чудовищу:
— Ну где, где тебя черти с утра носят?!
Ноги у меня дрожат, подкашиваются. Дыхание со свистом вырывается из сожранных окопным туберкулезом легких.
— С утра, — хватаясь за косяк, шепчу я, и вскрикиваю, как безумный, и падаю на беднягу Шипачева…
Примерещилась Ираида Ляхина. Голая, потрясающая стержнем, она проскакала мимо на запаленном Афедронове с криком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Следом пошел снег. Кружась и перепархивая, с неба сыпались серебристые, на лету превращавшиеся в пепел, доллары.
Я проснулся в холодном поту и, растолкав Идею Марксэновну, во всем повинился перед ней.
— Все мы не без греха, — гладя мою седую голову, вздохнула она, и в свою очередь созналась, что если уж и была утром на Литейном, то никак не в женской консультации.
Читать дальше