— Кто у нее воспитывался? Я или он? Он и в глаза ее никогда не видал… А я уже купил старушке почти новое плетеное кресло.
— Там сестра, тут — ты! Но только ей принадлежит решение, — словно на сцене произнес Теобальд Клеттерер и принялся за венок.
Салат в парнике, кочешок к кочешку, сиял свежестью этим ярким мартовским утром. На некоторых тщательно разровненных грядках нежными зелеными стрелками пробивались ростки. На других еще лежали семена, и для устрашения воробьев вдоль и поперек была протянута бечевка с трепещущими на ветру полосками бумаги.
Посреди сада, на пригорке, в бурой прошлогодней листве зацветали подснежники и фиалки. Солнце пригревало землю, и кое-где на кустах уже распустились почки. Но по ночам сад сковывали заморозки.
Ханна Люкс — ей не исполнилось и шестнадцати — шла между грядками мартовского сада по узенькой, не более чем в четверть, тропке, достаточно, однако, широкой для уверенной игры ее тонких щиколоток, коротким, четким шагом, словно следуя ритму ей одной лишь слышной музыки. На ней была плотно облегающая красная шерстяная фуфайка с длинными рукавами, в которой ее тоненькие руки казались обособленными от туловища, и очень широкая и тяжелая черная шерстяная юбка, при каждом шаге обвивавшаяся вокруг ног.
Высокая, тоненькая, но округлая шейка уверенно несла узкую в висках голову. Розовая кожа слегка отливала оливковым, а жаркие глаза, опушенные очень длинными, загнутыми кверху ресницами, сулили, что несколько крупный рот вскоре нальется, как спелая вишня.
Ханна и выглядела, и чувствовала, и держалась так, словно все человеческие и житейские тяготы расступаются перед ней, не смеют ее коснуться — случайно заброшенная в этот городок экзотическая принцесса, чья строгая прелесть радовала взгляд и трогала душу каждого.
Она пришла за деньгами на муку и сахар.
— Значит, то есть опять?..
Ханна ничего не ответила, только еще дальше выставила вперед руку, искоса улыбаясь жене садовника, потом тонким и гибким большим пальцем пододвинула монету к серединке ладони, более розовой и светлой, чем тыльная часть руки, и сжала пальцы, кончики которых перекрыли запястье… С секунду она, как видно, размышляла. И вдруг исчезла в доме садовника.
Перескакивая через две ступеньки, она, слегка пригнувшись, взлетела по лестнице и с плетеной корзинкой в руках, тоненькая, причудливая, непринужденная, остановилась на пороге:
— Пойдем со мной!..
Как и все, что надо одолевать головою, Томас Клеттерер играючи сдал экзамен на аттестат зрелости, добросовестно посещал лекции в университете, много читал и экспериментировал в саду. — К девятнадцати годам он незаметно для себя стал сведущим садоводом. На участке плодородной земли, которую он еще удобрил, применив собственный метод, он собирался снимать пять урожаев в год.
На некрашеной сосновой доске, установленной на козлах во всю ширину огромного окна, среди образцов семян и цветочных луковиц в беспорядке лежали книги по философии, политической экономии и новейшему садоводству. За занавеской стояла походная кровать. Когда-то здесь была оранжерея, потом ее переоборудовали под кабинет для Томаса. Солнце заливало всю комнату.
Но порой он не читал, не копался в саду, не ходил на лекции, а только думал о Ханне, бродил по лесам и вдоль берега реки, лежал, закинув руки за голову, на дне лодки, и все думал о ней. По отношению к Ханне у него тоже был собственный метод — чувствовать головой и думать сердцем. Тут все сливалось воедино.
Но сколько он о ней ни думал, слова не шли у него с языка. Он никак не мог выговорить решающего слова. А говорить, как другие или как говорят в романах, не мог и не хотел.
Он мог только глядеть на ее тонкую шейку, по-ребячьи разделенную желобком, или еще сказать ей: «У тебя на кофточке распустилась петля». И это значило: «Я люблю тебя».
Только один-единственный раз, на прошлой неделе, в полдень — они гуляли по пронизанной солнцем серебристой березовой роще — счастье проделало за него весь долгий путь от сердца к губам, но тут Ханна, почувствовав, что он готовится ей сказать, зажала уши ладонями, вихрем помчалась по аллее и скрылась.
Сегодня, после долгих пяти дней, он видел ее впервые.
Ханна сидела боком на краешке стола и болтала правой ногой, касаясь носком циновки. Она вела себя, нельзя сказать, чтоб вовсе уж неумышленно, как десятилетняя девочка, которой никому и в голову не придет сказать «я люблю вас». Ей, должно быть, хотелось, прежде чем возобновить дружбу, сперва окончательно и бесповоротно зачеркнуть пережитое в березовой роще. Она страшилась этого.
Читать дальше
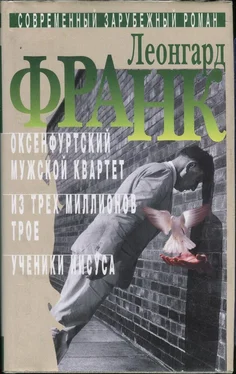



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




