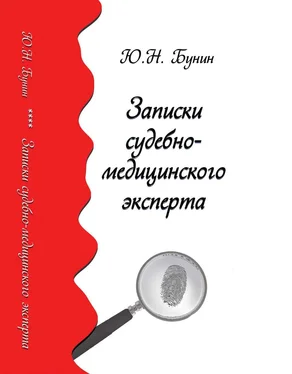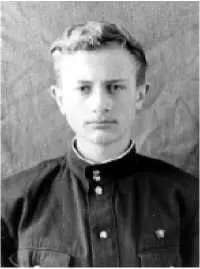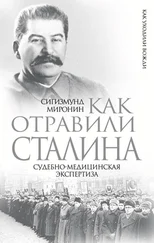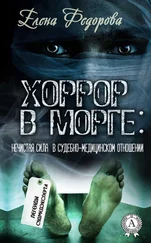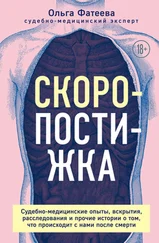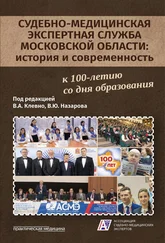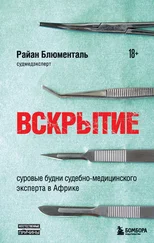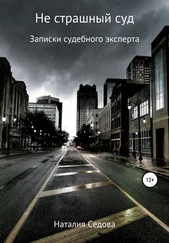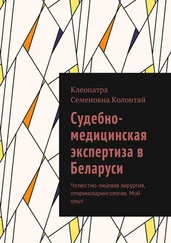Как вы помните, следов борьбы на месте обнаружения трупа не нашли, шума борьбы, криков диспетчер и техник не слышали. Замок на входной двери явно был открыт самим охранником. Следовательно, борьбы и не было. Значит, кто-то постучал в дверь и попросил его впустить. Незнакомому человеку охранник никогда бы дверь не открыл и непременно позвонил бы на центральный пост. Значит, они были знакомы. Неизвестный вошел, оба прошли к столу охранника и о чем-то говорили, стоя лицом друг к другу. Вошедший неожиданно нанес удар ногой в область мошонки. Смею вас уверить, что эффект от такого удара оглушающий — это одна из чувствительных (очень!) рефлексогенных зон. Охранник осел в кресло. При этом он мог и не потерять сознание и, вероятно, попытался левой рукой нажать тревожную кнопку — она закреплена под столешницей слева. Попытка была пресечена ударом по бицепсу левой руки. Следующий мощный удар — по передней поверхности шеи. При этом, кроме подъязычной кости, травмируются рефлексогенные зоны наружных сонных артерий (каротидные синусы) и блуждающие нервы, что приводит к мгновенной рефлекторной остановке сердца. Потому и не было отека слизистой гортани — он просто не успел развиться.
А теперь подумаем, кто мог нанести три таких прицельных отключающих и поражающих удара? Только человек, имеющий специальную подготовку! Эти соображения я довел до следователя.
Через одиннадцать лет я попытался найти в архиве Бюро тот самый акт эксгумации от 2001 г. Но… за это время архив много раз перемещали с места на место (из корпуса в корпус), его заливало водой, грызли мыши и т. п. Короче, ничего я не нашел.
При случайном разговоре со старым знакомым — сотрудником облпрокуратуры (теперь следственного комитета), мы вспомнили этот эпизод и он пообещал мне сообщить кое-какие подробности. Вскоре он позвонил и назвал мне номер уголовного дела (зачем он мне?) и фамилию убиенного охранника. Но о том, чем закончилось уголовное дело, почему был убит охранник, найден ли убийца, он промолчал. А я не стал расспрашивать — для меня интерес не в этом, а в чисто судебно-медицинской ситуации.
Часть вторая РАБОТА НАША ТАКАЯ
После написания первой части «Записок судебно-медицинского эксперта» («Этюды об эксгумации») коллеги настоятельно рекомендовали мне продолжить работу.
Но не только это заставило ее продолжить. Дело в том, что еще в молодости, только соприкоснувшись со своей специальностью, я, по совету моего учителя Владимира Павловича Десятова, первым делом прочитал две книги — «Записки эксперта» М.И. Райского (1956) и «Криминалистика в судебной медицине» Ю.С. Сапожникова (1970). Они произвели на меня глубочайшее впечатление и в конце концов определили окончательный выбор профессии.
Их я выучил практически наизусть.
Но эти книги не были учебниками по судебной медицине, коих я в то время перечитал великое множество.
Это было талантливое и очень простое изложение опыта и знаний авторов, которые впитывались, что называется, «с первого прочтения». В том-то все и дело.
С тех пор прошли десятилетия, и теперь я имею уже собственный опыт.
Сам преподавал судебную медицину и знаю, что сухое изложение учебников (при всем моем к ним уважении) и методичек вызывает у студентов вежливую зевоту. Сейчас меня не это беспокоит. В нашу специальность различными путями приходят молодые (и не очень) врачи. Как научить их не просто формальному знанию правил и закономерностей, но и заинтересованному, жизненному отношению к нашей профессии? Вот для меня главный вопрос.
Именно поэтому, чувствуя за спиной большой практический и научный опыт, не могу не отразить его в записках. Это — не учебник. Этому нельзя научить. Этому можно только научиться.
Во второй (но не последней) части записок речь пойдет не только об эксгумациях. В ней попробую отобразить многообразие случаев, с которыми сталкивается судебно-медицинский эксперт, и варианты экспертной оценки ситуаций, которые проверены жизнью.
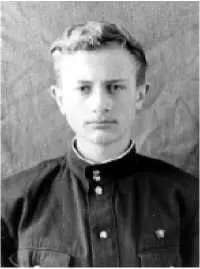
Автор в 9-м классе, секретарь комитета комсомола в школе (Белоруссия). Мама перешила отцовскую гимнастерку

1967 год. Военные сборы под Бийском

1971 год. Армия
Читать дальше