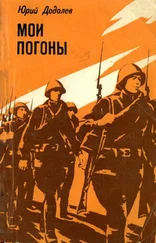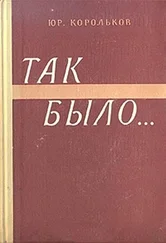Я орудовал лопатой изо всех сил, стараясь доказать всем и прежде всего Егору Егоровичу, что умею и хочу работать
Хотелось передохнуть, но никто не давал команды на перекур. Я подумал, что только первые дни будет тяжело, а потом втянусь, потом станет легче. Мне никто ничего не подсказывал, и это нравилось мне, значит, я выполнял свою работу правильно. Иногда я ловил на себе взгляды Дарьи Игнатьевны и замечал в ее глазах сочувствие.
— Перекур! — скомандовал Егор Егорович.
Я воткнул лопату в бугор.
— Ты куда? — спросил Егор Егорович.
— Тут недалеко, — ответил я.
— Не ходи, — сказал Егор Егорович. — Уехала…
— Что? Когда? — Я мгновенно понял все.
— Вчера. Я ей бричку дал.
— Уехала? Одна?
Егор Егорович помедлил.
— Н-нет. Не одна.
Я едва справился с охватившим горло удушьем, спросил:
— Кто он? — И услышал, как дрожит и ломается мой голос.
Егор Егорович замялся.
— Постарше тебя. Но сколько ему точно, не скажу — я его мельком видел. Наши бабы говорят: вроде бы неплохой человек, тоже фронтовик.
— Вы знали, что она уезжает?
— Знал.
— Куда она уехала? — Я снова услышал, как дрожит и ломается мой голос.
Егор Егорович покосился на дымящих самокрутками казаков, похлопал себя по карманам, видимо, в поисках табака, невесело улыбнулся — вспомнил, должно быть, что бросил курить, сказал:
— Это она скрыла. Уехала — и все. Жаль было отпускать такую работницу, но ничего не поделаешь — обстоятельства.
— Я найду ее! — воскликнул я.
— Не надо, — строго сказал Егор Егорович. — Она не просто так уехала, а замуж вышла.
Я опустил голову.
Егор Егорович положил руку мне на плечо и ласково сказал:
— Понимаю тебя, друг. Но это только первое время так будет, а потом полегчает. Потом она только в снах приходить станет. Потом ты с ней всех сравнивать будешь, пока такую же, как она, не встретишь или еще лучше. — Егор Егорович отвернулся, и я подумал, что он, видать, лучше тетки Ульяны никого не встретил, а ведь она всегда казалась мне заурядной женщиной.
Подошел Василий Иванович. Присел на край бревна, вытянул деревянную ногу и сказал, притронувшись согнутым пальцем к глазу:
— Кондратьевича жалко. Как вспомню про него, глаза потеют.
— Плох? — спросил Егор Егорович.
— Плох, — подтвердил Василий Иванович. — Как пришел, так сразу и слег. По сю пору лежит. Не ест, не пьет. «Помирать, — говорит, — буду».
— Старый он, — сказал Егор Егорович.
— Старый, — согласился Василий Иванович. — в Юрьев День восемьдесят пять стукнуло.
— Может, фельдшера позвать? — Егор Егорович надел майку.
— Был он, — ответил Василий Иванович. — Какие-то таблетки дал, а Кондратьевич, чертяка, их выплюнул.
А я думал о Вальке. Я видел, как она садится сейчас в поезд, как тот, другой, помогает ей. Глаза у Вальки не смеялись, и это почему-то чуть-чуть облегчало боль. Я подумал, что Егор Егорович прав, что теперь Валька часто будет вставать перед моими глазами то улыбающаяся, то грустная, но чаще улыбающаяся, потому что такой я привык видеть ее.
Прощай, Валька, горькая любовь моя! Изменится моя жизнь, будут в ней встречи, разлуки, трудные дни — только тебя не будет. Прощай, Валька!..
Мы работали до самого вечера, пока не село солнце и от яблонь не потек медовый дух. От усталости ныли мускулы, но это была приятная усталость — та, которую всегда испытывает истосковавшийся по работе человек.
— Ночевать ко мне пойдем, — сказал Егор Егорович. — У меня в хате диван есть. Хороший диван!
Я ворочался на продавленном диване, пружины скрипели, впивались в бока. Несмотря на раскрытые окна, было очень душно. Так всегда бывает перед грозой, когда все замирает, когда не шелохнется ни листочек, ни веточка, когда нет даже намека на ветер и воздух становится липким. Я никак не мог определить, который теперь час.
Перед глазами возникали то Зыбин и Серафим Иванович, то мать и Валька, то лица моих друзей — Кулябина, Марьина, Семина. Фронтовые друзья виделись мне отчетливо, как будто наяву. «К чему бы это? — подумал я. — Постой, постой… Какое сегодня число?.. Неужели пятнадцатое?.. Точно, пятнадцатое. Значит, все это было два года назад. Ровно два года назад».
И я вспомнил канун боя — самого страшного боя в моей жизни. Шли дожди — холодные весенние дожди. Земля уже не могла вобрать в себя всю влагу и мокро хлюпала под ногами, когда мы топали к походной кухне. Хлюп, хлюп! — туда, хлюп, хлюп! — обратно. И дожди, эти проклятые дожди, позволили немцам оторваться. Мы думали: «Шалишь, фриц! Все равно нагоним!» Но когда нагнали, они закрепились — не сковырнешь. Три раза поднимался наш полк в атаку, и каждый раз откатывался. А наша рота в резерве стояла. Семь дней и семь ночей дожидались мы своего часа, вслушиваясь в далекий гул канонады. А на восьмой — приказ. Ночью подняли нас по тревоге и повели. Куда? Про то наши командиры знали, а мы, бойцы, только догадывались, куда топаем. Солдатское дело такое: приказывают «иди!» — пойдешь, прикажут «ложись!» — ляжешь, прикажут «умри!» — умрешь, потому что ты присягу принял.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)