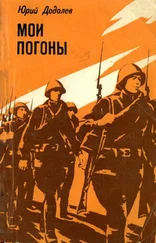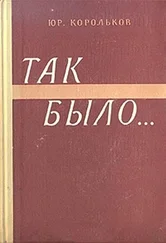Надя произнесла эти слова с такой болью, что я подумал: «Она, должно быть, рассказывает об этом впервые». Я подумал так потому, что очень часто мне самому хотелось поделиться с кем-нибудь, рассказать о себе, о своей жизни, которая складывалась совсем не так, как мечталось.
— Как же ты теперь? — спросил я, чувствуя, как во мне все возрастает жалость и к Наде, и к самому себе.
— Живу… — Надя усмехнулась.
Я растерялся. Мое лицо, должно быть, вытянулось, стало смешным. Надя взглянула на меня и воскликнула:
— Да не верь ты мне! Я иной раз наговариваю на себя, потому что тошно мне. Ох как тошно!..
Я подумал, что Надя сейчас находится на том рубеже, с которого одна дорога ведет вверх, а другая вниз, что один неверный шаг, и Надя… Я не хотел этого и, стараясь унять волнение, стал думать, что делать, как и чем помочь Наде. Втравливать ее в спекуляцию мне никак не хотелось. А что иное я мог предложить ей, когда сам жил одним днем, когда сам совсем недавно стал задумываться о своей жизни?
— А тут что ты делаешь? — спросил я. — Сторожишь?
Надя улыбнулась.
— Чего тут сторожить-то, а? Море, что ли? Оно никуда не денется, его никто не уворует. Нет, я тут просто так. Когда мой ребеночек помер, села я на поезд и поехала. Мне все равно было, куда ехать. Так я и очутилась в Сухуми. Слезла и пошла, пошла… До тех пор шла, пока на эту будочку на наткнулась. Понравилось мне тут: тихо, безлюдно. Будка заброшенной была, грязной. Я все вымыла, все прибрала. Я пуще всего чистоту люблю. Пусть старенькое будет, заштопанное — лишь бы чистое. — Надя помолчала, жмурясь на солнце, и спросила: — А ты, как я угадываю, рыбой торгуешь?
— Точно! — подтвердил я и стал рассказывать, как мотаюсь из города в город, как торчу все дни напролет на базарах. Я рассказывал с юмором, хвастал, чтобы произвести впечатление, и не говорил ни о своих тревогах, ни о своих сомнениях.
— А я бы не смогла так жить, — сказала Надя, когда я закончил.
От моей бравады сразу не осталось и следа.
А она запустила руку за пазуху, извлекла оттуда узелок и сказала:
— Пойдем поедим. У меня еще есть деньги — на чайных плантациях хорошо платили.
— Что ты, что ты! — запротестовал я. — У меня тоже есть деньги. Вон сколько! — Я вытащил провонявший тюлькой и подсолнечным маслом тугой бумажный ком.
— Ух сколько! — воскликнула Надя. И это «ух сколько!» чуть пощекотало мое самолюбие.
Мы пошли в город. Я чувствовал себя добрым пастырем, спасающим отбившуюся от стада овцу. Внезапно мне пришло на ум, что Надя, наверное, чувствует то же самое. Это меня рассмешило.
— Чего ты? — спросила Надя.
— Просто так.
Залитый солнцем город просыпался. С грохотом открывались жалюзи, над витринами тенты. Ветерок шевелил конфетные обертки, обрывки газет. Припорошенные пылью апельсиновые корки и ореховая скорлупа валялись на асфальте. Усатые дворники сметали метлами мусор. Пальмы были обернуты рогожами. Зеленели мелкие жесткие листья на аккуратно подстриженных кустах. И казалось, нет никакой зимы, на улице весна.
Несмотря на ранний час, полуподвальные ресторанчики уже открылись. Мы спустились по каменным прохладным ступенькам, сели за накрытый липкой клеенкой стол. Солнечные лучи еще не проникали сюда. В ресторанчике был полумрак, вкусно пахло вином, табачным дымом и чем-то очень острым, возбуждающим аппетит. Склонный к полноте грузин в незастегнутой куртке вытирал за буфетной стойкой стаканы. Он посмотрел на нас и что-то крикнул в проем за стойкой, занавешенный тяжелой портьерой. Тотчас появился официант — худой, длинный. Он искоса взглянул на нас и что-то сказал буфетчику. Тот возразил ему. Официант, вытирая размашистыми движениями попадающиеся на его пути столики, стал приближаться к нам. Остановившись, он посмотрел отсутствующим взглядом в окно на ноги прохожих, перекинул полотенце через руку и спросил:
— Пить будете или есть?
— И пить и есть, — ответил я
Официант кивнул.
— Могу харчо предложить и лобио.
— Несите и то и другое, — сказал я. — И еще — графинчик маджари.
Минут через пять официант принес на черном подносе с красным цветком графин вина, остывшее харчо, лобио и тонко нарезанный хлеб с примесью кукурузной муки.
Надя сидела чуть сгорбившись, положив руки на колени.
Я пододвинул к ней тарелку с лобио. Отщипывая мякиш, макая его в густую коричневую подливку, Надя стала есть. Ела она жадно, но в этой жадности не было ничего отталкивающего.
— Заказать еще? — спросил я, когда Надя отодвинула тарелку с остатками харчо.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)