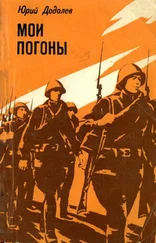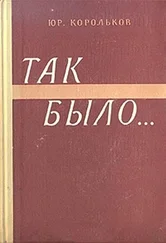Скала с косо срезанной верхушкой спускалась уступами к речушке, круто уходила в белые от пены, быстро катящиеся воды. На уступах росли кусты, опутанные сухими побегами дикого винограда. В гранитных глыбах блестела слюда.
Нагнувшись, Надя черпала пригоршней воду и, пофыркивая, умывалась, осторожно поводя мокрой ладошкой по трогательно тонкой шее. Я видел завиточки на затылке, острые локти, ноги-спичечки. Ситцевое платье обтягивало ее спину, расходясь от талии широкими складками. Рядом с Надей стояли туфли на низком каблуке — тупоносые, стоптанные, с медными пряжками на боках.
— Доброе утро, — сказал я, проникаясь к Наде жалостью при виде трогательно тонкой шеи, завиточков на затылке, острых локотков.
— Здравствуй, — ответила Надя, не поворачивая головы.
Я почувствовал себя виноватым перед ней и сказал:
— Не обижайся…
— А я и не обижаюсь, — ответила Надя и обернулась.
Ее лицо не отличалось выразительностью. Такие лица встречаются на каждом шагу. Две мокрые кудряшки пепельного цвета спадали на выпуклый лоб. Нижняя губа чуть выпирала, придавая лицу обиженное выражение. Мягкий подбородок показался мне безвольным. А вот глаза у нее оказались ничего — большие, чуть раскошенные.
Надя смотрела на меня, а я — на нее. Так мы стояли, наверное, минуту.
— Смотри глаза не обмозоль, — сказала Надя.
И, отвернувшись, вытерла подолом лицо. Показав взглядом на обмылок, лежавший на голыше, предложила:
— Умывайся, если хочешь.
Вода отдавала холодом, но камни уже нагрелись. Я стянул сапоги, поставил их около Надиных туфель, развернул портянки и, стыдясь своих грязных ног, пошел по колким камням к воде.
— Телогрейку скинь! — крикнула Надя.
Я снял телогрейку. Надя глянула на мою грудь. С орденом, медалью, нашивками за ранения. Спросила:
— Ты с какого года?
— С двадцать шестого.
— Одногодки мы, — сказала Надя. — Ты в каком месяце родился?
— В июле. Семнадцатого числа. А ты?
— В феврале. — Надя поморщила лоб. — Я почти на полгода старше тебя.
— Подумаешь! Зато я повидал столько, сколько тебе и не приснится.
— Это как сказать. — Подбородок у нее дрогнул, синяя жилка проступила на лбу. — Я целых два года в Германии пробыла.
Я тотчас вспомнил все, что слышал о людях, угнанных в фашистскую неволю. Я вспомнил песню «Письмо из неволи», которую исполняла в нашем госпитале девушка-солдат — участница художественной самодеятельности. Начиналась эта песня так:
Любимый мой, пора моя настала,
Последний раз я карандаш беру.
Кому б моя записка ни попала,
Она тебе писалась одному…
Девушка-солдат словно бы исповедовалась тогда перед нами, ранеными, словно бы просила нас отомстить. Эта песня вызывала боль.
— Никому не пожелаю пережить что я пережила! — выкрикнула Надя. В этом выкрике было все — гнев, боль и… бессилие. — Запомню навек фрау, свою хозяйку, что по щекам меня хлестала, что плеткой лупила… Меня в детстве никто — ни отец ни мать — не бил. А тут эта жирная фрау. — Надя брезгливо повела плечами. — Посмотришь не так — пощечина, слово скажешь — плетка!
— Понимаю… — проговорил я.
— Ни черта ты не понимаешь! — воскликнула Надя. — С ребеночком я вернулась. Только не от немца у меня ребеночек — от нашего! Я в Германии с русским парнем ходила — с таким же подневольным, как я. Застала нас фрау хозяйка. — Надя всхлипнула. — Парня в концлагерь отправили, а меня так исполосовали, что рубцы по сей день болят. Показать?
— Не надо, — пробормотал я, проникаясь к Наде чувством сострадания.
— Нет, ты посмотри! — возразила Надя и обнажила часть спины, которую пересекали багрово-синие рубцы.
На моих глазах погибли мои друзья — сержант Кулябин, ефрейтор Марьин, боец Семин. Я видел разрушенные фашистами станции и полустанки, сожженные деревни и села. Я думал: «Меня уже ничем не удивишь». И вот теперь эта женщина, испытавшая и пережившая то, что не испытал и не пережил я. Мне показалось: каждой порой своего тела я ощущал ту боль, которую, должно быть, ощущает Надя.
Она застегнула пуговицы, одернула платье и сказала:
— Не доносила я ребеночка, на два месяца раньше родила.
Я представил себе роды на чужбине, в невольничьем бараке, на грязной подстилке. Я отчетливо видел этот барак, солому на нарах, суетящихся около Нади женщин, таких же подневольных, как и она. Я видел толстую фрау с плеткой в руке, презрительно кривившую губы. За несколько мгновений я мысленно пережил то, что могла пережить Надя. Я понимал: мое душевное состояние — пустяк по сравнению с тем, что было на самом деле.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)