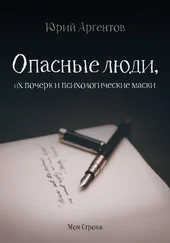Он шел, задирая вверх голову, глядя на еще светлые мансарды. Коты подавали голос и показывались в гуще цветов, смотрели вниз и снова пропадали. Люди тоже показывались и пропадали. И тут Гастон понял, что сам уже не понимает, куда идет, потому что запомнить все эти изгибы и повороты, площади и деревья было невозможно. Он шел просто потому, что еще было светло, потому что пока светло – нужно ходить, он тратил этот день, как самолет вырабатывает топливо, кружась над аэродромом. И тогда, словно в помощь ему, начало темнеть. Все же гора где-то пряталась, потому что темнеть стало быстро, такого не бывает, когда солнце постепенно садится за горизонт на равнине. И это было хорошо, потому что стало наконец видно направление теней, понятно движение солнца – где оно останется в последний момент. На самой улице не было уже ничего, кроме тени. Глядя на отражения в окнах мансард, Гастон ускорил шаг. Там, немного выше, дальше от реки, должно было находиться место на самой что ни на есть солнечной стороне. Он пересек небольшой мостик, который выглядел совсем как часть улицы, и только по журчанию воды внизу можно было догадаться, что это мостик. Пожилая женщина посмотрела на него из окна мягко, как мать, и Гастон решил, что это хорошо, что он пошел здесь.
Улица петляла и вывела на небольшую площадь, где с одной стороны находились площадка для игры в pelote basque и стоянка, а с другой, на зеленом пригорке, старая скамейка. Гастон сел на нее и увидел последний на сегодняшний день свет. Но произошло это очень странно. Гастон смотрел на крышу самого высокого дома, где должны были оказаться лучи, и ничего не обнаружил. Зато от стоянки, ломаясь и пропадая в траве, к нему пополз оранжевый зайчик. Добрался до скамейки, а потом лег Гастону на грудь и пропал быстрее, чем тот успел испугаться.
Света, то есть лучей света, больше не было. И тут же темнота, то есть лучи темноты, стали заполнять все вокруг. Легли на машины, на стены, а несколько – на лицо Гастона. Он немного отдохнул, успокоенный ими, потом встал и побрел на голоса в сторону бара. Постоял рядом с террасой, глядя на курящих и пьющих людей, и подумал, что тоже хотел бы немного посидеть, как будто он свой, как будто у него есть неподалеку дом, и бар под домом, и свободный вечер. Взял бокал красного, вернулся, сел за столик.
– Добрый вечер, – сказал он соседям устало, чтобы больше походить на своего. Ему улыбнулись и продолжили пить и курить.
Не успел Гастон сделать несколько глотков, как стало совсем темно. В доме над баром открылось окно, и женщина, высунувшись, заговорила с проходящей мимо молодой парочкой. Они весело пообещали встретиться как-нибудь, попить вина и «все рассказать». Соседи слева и справа говорили тихо, не навязывая Гастону свою жизнь. У тех, что слева, пошла уже вторая бутылка. Так прошло много времени, и Гастон обмяк, ощутив себя своим, но только это была не правда, а игра, и всем было куда идти потом, а ему – нет. С непривычки повело от вина, и он пошел в туалет умыться.
В коридоре за шторой стояли швабры и бочка с пивом, а еще дальше находились почему-то две туалетные комнаты. Гастон вошел в одну, умылся. Он посмотрел на себя, на крашенную, может быть, еще до войны стену в отражении, вытер лицо чистым полотенцем. Лампочка светила слабо, и все, что было видно, было видно плохо.
Тогда Гастон почувствовал себя счастливым и запер дверь. Он вдруг каждой капелькой крови ощутил, осознал, что никто не знает, где он сейчас. Ни близкие, ни дальние знакомые, ни враги, ни друзья. Конечно, за полгода его жизни в автомастерской этого тоже никто не знал. Но тогда таких мыслей не было. И это была словно подготовка, первая ступень, а случилось все сейчас. И действительно: если даже о городе без названия никто во Франции не знал, и жил там Гастон без документов, безымянным двуногим в спецовке, то об этом районе, лежащем по ту сторону железной дороги, не знали даже в городе без названия. И бар находился теперь уже точно в лабиринте улиц, так что его не найдешь ни специально, ни тем более случайно. Вдобавок ко всему Гастон ушел с террасы и находился сейчас в туалете. И штука в том, что туалета было два, то есть, если бы кто-то постучал и понял, что занято, он не стал бы стоять, и следующий не стал бы стоять, никто не стал бы торопить Гастона. Вот и получалось, что никто, вообще никто не знал, где он сейчас, и это могло длиться еще минуту, и пять, и десять. Облокотившись на стену, Гастон дышал полной грудью.
Потом он отпер дверь и через бочку и швабры вернулся к людям, сел на свое место. Его соседи ушли, а вместо них слегка поодаль присел и навис вопросительным знаком над бокалом какой-то пьянчужка.
Читать дальше