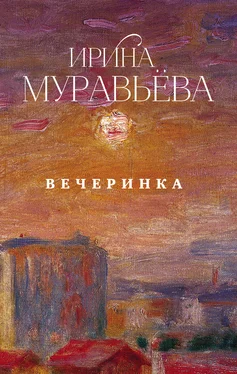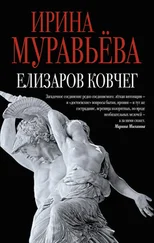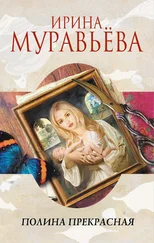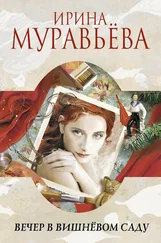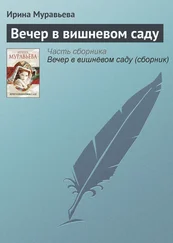Нутром она чувствовала, что эти пять дней, которые они провели вместе, можно выдавить из себя только силой, подобной гипнозу, а может быть, шоку. Когда полтора года назад умер ее новорожденный мальчик, она знала, что не только не забудет его, но никогда и не освободится от горя. Муж предлагал ей поехать куда-нибудь, чтобы отдохнуть и начать все сначала. Это невинное предложение вызвало в ней такое отвращение к нему, которое она не смогла преодолеть. Одной было легче. По крайней мере, она не ловила на себе ничьих удивленно-испуганных взглядов. Никто не учил ее, как выползать из той темноты, которая сразу накрыла ее, когда золотистого, теплого цвета, как будто игрушечный, гроб опустили в весеннюю землю. То, что может появиться другой мужчина, и этот мужчина излечит ее, избавит ее от навязчивой памяти и гробе вместе с телом, в котором все было родным (и особенно родным и щемящим был крохотный рот, похожий на сморщенную еживику!) – что может другой человек ей помочь, она себе не представляла.
Простившись с ним утром и проведя целый день в постели наедине со своими воспоминаниями, от которых она то холодела, то заливалась краской, Вера ждала, что через день-другой опять хлынет в сердце тоска и опять появится перед глазами ребенок. Но вместо тоски ее вдруг охватила горячая, дикая, глупая радость. Она подходила к окну, например, и видела двор, весь шумящий и пестрый, и счастье, причины которому не было, так переполняло ее, что хотелось смеяться от этого счастья. Ей даже казалось, что если Сергей и не позвонит, даже если они не встретятся больше, какая-то дверь отворилась внутри, откуда идет сильный свет. Теперь она не опускала глаза, как делала это все время с тех пор, как умер ребенок, и ей было легче смотреть себе под ноги, – теперь она все поднимала их к небу, и небо как будто ждало ее взгляда.
Неделя прошла, пока он позвонил.
Одри Смирновой (Смирнофф по-английски) исполнилось двенадцать лет, и она все время была в кого-нибудь влюблена. Она влюблялась в официантов, в своих одноклассников, в кузена Константина, но больше всего на свете она была влюблена в своего отца. Он постепенно становился ее игрушкой, потому что куклы ее уже не интересовали, книги тоже, сверстники были заняты делами, которые ей, про причине болезни, были недоступны, а отец был с ней все время и подчинялся любому желанию. Она заводила музыку, и они вместе танцевали так, как на сцене танцуют рок-звезды. Они пели под гитару, на которой он играл, и устраивали дома караоке. Он ездил с ней ко всем врачам и успокоительно подмигивал, когда эти врачи приступали к осмотру и ее начинало привычно подташнивать от легкого страха. Отец был с ней летом, зимой, днем и ночью. Да, мама тоже старалась. Но в маме не было той безотказности, которую она искала и находила только в отце. До мамы она снисходила, к отцу же рвалась всем своим существом. Мешал очень Петька, потому что отец любил его, и эта тихая, но сильная любовь выводила Одри из себя. Отношения с братом испортились настолько, что она с трудом переносила за обедом его присутствие. Четырнадцатилетний Петька иногда тоже срывался, повышал голос, и несколько раз мама заставала его рыдающим в гараже. Тогда мама тоже рыдала и требовала объяснений. Отец, жалко сморщившись, обнимал Одри и уводил ее в кино или в магазин, а на следующий день пытался загладить свою вину перед Петькой. Одри подслушивала под дверью, хотя отец разговаривал с братом только по-русски, а она начала забывать этот язык, и не все было ей понятно. Получалось, однако, что отец просит Петьку не обращать внимания на ее поведение и пожалеть сестру, у которой и без того непростая жизнь. Она не хотела, чтобы ее жалели, и от того, что безвольный Петька сразу же соглашался с отцом, ненавидела его еще больше. Мама была на стороне брата, и Одри объяснила себе, что мама давно тяготится ею, потому что никому не нужна больная дочка. Когда Адриана покупала ей очередную курточку или ботинки, Одри благодарила сквозь зубы, чувствовала фальшь и не верила ей.
Сама Адриана перестала удивляться всему, что преподносила жизнь, поэтому холод мужа и нелюбовь дочери пыталась компенсировать отчаянной привязанностью к сыну, который, чувствуя тоску и страх матери, начал избегать сестру и, зная, что любое его внимание к отцу будет встречено истерикой Одри, лавировал между ней и родителями.
Цветы оставались в их доме. Цветы и иконы.
Та сила разрушения, которая пылала в Одри, та сила любви ее только к отцу сделали ее безразличной по отношению ко всему, что происходило вокруг, но особенно проницательной по отношению к тому, что происходило в их семье. Сначала она хотела как можно сильнее очернить маму в папиных глазах. Но вскоре почувствовала, что в этом нет нужды, потому что папа и сам сторонится мамы и как-то темнеет, если мама обнимает его на людях или прижимается к нему, когда они сидят на диване и смотрят телевизор. Он уже не закидывал руку ей на плечо и не гладил ее по колену, как это бывало раньше. Но самым неожиданным было то, что папа все чаще и чаще оставался спать в своем кабинете на первом этаже, и теперь у Одри появилась возможность, о которой она раньше всегда мечтала: спать на большой кровати вместе с мамой, чтобы не бояться тех сгнивших людей, которые часто входили во сне, пугая ее так, что редкую ночь она не кричала от страха. Возможность спать с мамой теперь появилась, но Одри не пользовалась ею, и мама спала совершенно одна в большой пышной белой кровати, а утром пугалась, что все проспала, накраситься не успевала, в машину садилась помятая, бледная, зажавши в губах сигарету.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу