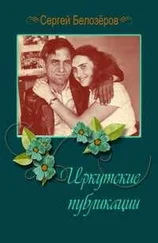Ого! — прогнулся я от странного предчувствия. Что-то больше и значительное глядело на меня из будущего и звало к себе, впрочем, я ничего не понял, кроме того, что это был аванс.
— Куда? А по коньячку? — и перевёл всё в шутку, потому что любая лесть, даже закамуфлированная, питала моё честолюбие, и я боялся сглазить.
— Как, «куда»? — вытаращил он глазки, опуская за ремарку по поводу коньячка и с любопытством горбатого зверька удостоверяясь, что в пейзаже за окном не пропали ни Москва-река, ни «Сити», ни «Багратион» заодно. — У нас же договор, — с ехидным укором склонил он голову, как собака Павлова. — Я тебя жду! И не я один… — вдруг добавил с хитрецой, которая ему крайне шла, как женщине Джакондовская улыбка.
— А кто ещё? — испугался я, полагая, что шутки в таком деле преступна, как дезертирство на войне.
— Увидишь, — высказался он так, словно подталкивал меня к пропасти.
И я понял, что я его личная вещь, куш, с которым он носится по Москве и шантажирует всех неверных. Должно быть, он получал огромное удовольствие оттого, что дразнит либеральных гусей, плюет на мнение разнокалиберных экспертов и созывает русскую рать под знамена актуальности. Интересно, надолго у него хватит пороха, подумал я, скрестив пальцы, и когда на меня спустят всех борзых, чтобы я огрёб по полной, чтобы сгинул в своём Донецке и чтобы не ковырял столичный гадюшник, а помалкивал до гробовой доски.
И мы поехали. Я безуспешно ломал голову, кому я понадобился, и втайне надеялся, что какой-нибудь записной красотке, которая заочно влюбилась в меня по фотографиям, а объясниться по вай-фай стесняется. Даже Алла Потёмкина отступила на задний план и грозила оттуда модельным пальчиком.
— Амалии Рубцовой, — насмешливо раскрыл карты Роман Георгиевич, видя мои страдания.
Оказывается, действительно — всего-навсего «режиссёру по актёрам», да и то лишь для того, чтобы сдёрнуть (именно, сдёрнуть, а не спустить) вашего покорного слугу с небес на землю, однако, хищная, как гарпия.
Оказалось, что Амалия Рубцова — это три килограмма краски на мертвенном лице, кожа, как пергамент, и огромные очки на крохотном носике без переносицы.
Самое страшное, что она была деловой до невозможности, сухой, как всякий бумажный червь, сутулой, как лопата грабарка, и с презрением в душе на пол-Москвы и окрестностей. Как только она меня увидела, на лице у неё поселилась маска крайнего неприятия, мол, Испанов мне не указ! И хотя я давным-давно, ещё до покушения, изложил все свои благие пожелания и вместе со сценарием отослал Роману Георгиевичу, «Потребовалось кое-то уточнить», — заверил он меня не без тайного умысла. Если бы я сразу понял его вавилоны, то не приблизился бы к «режиссёру по актёрам» на пушечный выстрел. А великий умысел его заключался в том, что он натаскивал меня на киношных подмостках, чтобы я приобрёл столичную хватку и стал столичным волком с острыми зубами и колючим языком.
Кастинг, кстати, проходил в тёмном камерном зале с ярко освещенной сценой, на которую выходили безликие, как манекены, женщины. Никого из них я не узнавал даже приблизительно, то есть это был третий состав пятой оперы десятого контингента. Все они были по моде сухопарыми и фитилявыми, с гордыми шеями и твёрдой походкой, словно из-под одного штампа, больше смахивающие на чрезвычайно породистых лошадей. Даже голоса у них были однообразными, исключительно сценическими, великолепно поставленными, хотя без всяких претензий к первоисточникам. Нет, все красивы и соблазнительны, с прекрасным вкусом и точёными лодыжками, спору нет, обаятельны до умопомрачения, и умны до безобразия, их так учили и накачивали в их институтах и театральных школах; но… без шарма, изюминки, без индивидуальностей, без полёта, и до Панинского стиля и его энергетики не дотягивали и половины, а ведь речь-то шла о кино без всяких скидок, поблажек, дураков и наивностей. К тому же я ожидал, что кастинг — это нечто праздничное, торжественное, с приятцей, что ли, с искрой веры в себя хотя бы. А здесь всё убито одной сплошной постановочной рутиной; вот они и скисали раньше времени вместе со мной под замечаниями этой патентованной мегеры, у которой кончились гормоны, и она видела мир сквозь призму трафаретной морали.
Амалия Рубцова сняла очки, близоруко покосилась на меня, как на арбузный хвостик, и, не обращая больше внимания, излишне старательно, как мне показалось, принялась руководить процессом кастинга: «А можете вы пройти походкой гуся?» или «Отойдите в угол и изобразите веник». Веника у меня в романе не было; паутина в углу была, не спорю, но веника не было и в помине. Потом, когда актрисы на сцена потерялись за её замечаниями, а нелюбезность стала поперёк горла, Амалия Рубцова повернула ко мне лицо, злое, раскалённое, и поведала убийственно-ледяным тоном без всякого обращения к арбузным персоналиям.
Читать дальше