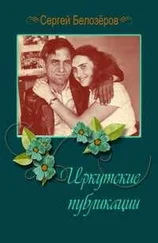Я тут же хотел рассказать ей об этом, чтобы она не связывалась со мной, чтобы бежала за тридевять земель, как от прокажённого, но на утро к своему большему удивлению обнаружил, что бок у меня даже не свербит и что я — почти что не хромаю. И я подумал, а вдруг на этот раз пронесёт и мы проживём долгую, счастливую жизнь до гробовой доски, и смалодушничал, поддался искушению, напрочь забыв об осколке в лёгком, который мог убить меня в одночасье.
* * *
Роман Георгиевич вспомнил обо мне, как только наступила лёгкая московская весна, и по небу то и дело пробегали тяжелые, мрачные тучи, а с севера дул порывистый ветер.
Я поправлять словно по мановению волшебной палочки. В тот день, когда он меня навестил, я весил уже все девяносто девять килограммов, не считая галстука, и одежда уже не болталась на мне, как на пугале, хотя лицо всё ещё казалось сделанным только из одного моего огромного, как любя говорила моя жена, шнобеля. Однако на свой левый бок я опасался смотреть, хотя швы мне давно сняли, и раны заботами Аллы Потёмкиной уже не тянули, но всё равно — со спины я был страшен, как поротый Алёша Пешков.
Кажется, была среда, и я пребывал на казённой квартире в шаговой доступности, как премило пожелала Алла Потёмкина, намекая, что виртуально, визуально и душой я буду присутствовать в её офисе, точнее, в её кабинете, сама же, несмотря на все мои возражения, выгнала меня в полугодичный отпуск «на поправку, и баста!» Я ждал её вечером; в холодильнике лежала бутылка прекрасного французского шампанского, а на стол в нашем уютном гнёздышке на кухне, украшенным огромный букет роз, к вечеру должна была быть подана тушёная утка с яблоками, которую я сам же вознамерился приготовить. И я усиленно фантазировал на эту тему и ещё на одну, связанную, естественно, с Аллой Потёмкиной, и был чрезвычайно воодушевлён.
— Мне уже из «военн-фильма» насчёт тебя звонили! — как обычно, радостно трясясь, закричал Роман Георгиевич с порога.
Он прямо таки светился от счастья. Я надеялся, что распирающее его самодовольство проистекало от того, что он нашёл талант не где-нибудь, не в столице, не в стране печатного станка и не у либералов под мышкой, не в Париже, Германии или Израиле, а в нашей глубоко занюханной, только что освобожденной от бандеровцев провинции, которая, по идее, не должна рожать ничего и никого, кроме героев-добровольцев для фронтов Донбасса, пятиколонников прилепиных и бездарных щелкопёров местного разлива на осадке; и похоже, его обуял чисто спортивный интерес, что из этого всего выйдет и выйдет ли вообще? Кто ещё Москву так хитро плечиком подвинет? В воздухе витала сенсация под знаком вопроса в зловониях столичного невежества, фанфаронства и чванства.
Естественно, Роман Георгиевич мне многое не рассказывал, но можно было догадаться, что планы у него, как у Наполеона со взятием Москвы.
— И что?.. — с выдержкой спросил я, понимая, что, к сожалению, он банкует и выбирает вектор движения, а я всего лишь конь в его шахматной партии, на котором он гарцует в нарушении всех правил, и по диагонали, и туда-сюда, и сюда-туда — и в панамке, и в шарфике с помпончиками, норовя сделаться ферзём.
— А фигушки им! — величественно покрутил Роман Георгиевич дулю в расплывчатое московское пространство и с любопытством юнца подался вглубь квартиры, суя по углам свой нос картошкой, очевидно, полагая, что я прячу там вдохновение в виде шикарной блондинки типа Мэрилин Монро, и он с ней закрутит такое танго, что мир вздрогнет.
По пути он многозначительно покосился на чёрные туфли Аллы Потёмкиной, выглядывавшие из-под обувной полки. Его горб, от которого на стены падала уродливая тень, был знаком королевского величия.
Я понимал, что Роман Георгиевич каждый раз покупает меня за понюшку табаку, за аванс, за надежды, а если ты даёшь повод, то с удовольствием поупражняется и в самодостаточности, сидя у тебя же на шее; но деваться было некуда от его ухарской натуры; и я решил: будь что будет, других союзников нет, в кои веки я ещё кому-то понадоблюсь, главное, чтобы он сильно не натёр себе седалище, а мне — шею.
— Собирайся! — со странным выражением на лице обернулся Роман Георгиевич, забавно перебирая короткими ножками и прислушиваясь к эху квартиры.
Что это значит? — вопросительно уставился я на него, однако, он вовремя, а главное, царственно отвернул лукавую морду не в смысле насмешки, а в смысле непонятно какого поощрения, сокрытого под маской тщеславия.
Читать дальше