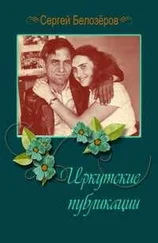— Это хорошо, — констатировал он на «о», деловито забираясь, как бабуин, то есть двигая всеми руками, ногами и седалищем, на высокий барный стул и отодвигая прочь свою поклажу, забыв о долге перед женой; шнурки покорно волочились следом.
Отныне предмет его обожания находился в пятилитровой бутылке с арманьяком. На лице у него появилось благородное выражение, подчеркнутое массивными роговыми очками. С этим выражением он и снимал свои рекламу, клипы и шлёпал своих ассистенток по одному месту во имя вдохновения и любви к киноискусству, и не считал это зазорным.
— Тебе не жарко? — намекнул я, усаживаясь напротив и испытывая удовольствие от общения с другом.
Но он даже шапку-ушанку не снял, а торжественно поведал:
— Художественное кино снимать буду… о гуачо, о полковнике Пероне, — и горестно подпёр морду кулаком. — Заказ получили.
— А почему такой грустный? — улыбнулся я.
— Старею, — молвил он с важностью и втянул в себя воздух вечно простуженным носом. — Так долго не живут!
За это я налил Валентину без сока, по самую золотую риску. Он выпил и даже не поморщился, хотя арманьяк «Чёрный дуб Гаскони» был крепче коньяка, к которому Валентин Репин привык в своих мосфильмовских палестинах.
— А пожрать у тебя есть? — откинулся с горестным вздохом на спинку, и она тоскливо заскрипела.
Я достал «домашние пельмени», купленные в кулинарии, где меня слёзно заверили, что они «самые что ни на есть домашние», и поставил кипятиться воду. Все остальные продукты были в виде полуфабрикатов, и возиться с ними не хотелось, хотя в качестве затравки подал мочёные яблоки, «пармезан» и копчёный говяжий язык в специях, не считая «бородинского», разумеется, как самый ходовой продукт на войне, помнится, что мы его грызли без масла и соли.
— Вах! — обрадовался Валентин Репин и грязными руками принялся быстро-быстро набивать себе рот.
— Тебя, что, не кормят? — догадался я.
— Не-а, — слезливо промычал он, едва ворочая языком, хотя глаза у него за стёклами очков выражали полнейшее добродушие. — Уже неделю! — Хихикнул он с превосходством, что, несомненно, относилось к его достоинствам, с лёгкостью сносить превратности судьбы. — Питаюсь одной китайской лапшой.
Он обожал горы, и его «вибрамы», смазанные и ухоженные стояли в кладовке на отдельной полочке, готовые к новым приключениям.
— Поссорились? — снова догадался я, ибо пережил все прелести семейных отношений и сохранил рассудок.
— Ага, — кивнул он, мол, хорошо, что ты меня понимаешь. — Выгнать грозятся!
И я сообразил, что шапка, не снятая одежда и не завязанные шнурки — это форма протеста против реалий семейной жизни, и что он ждёт Жанну Брынскую, дабы ткнуть носом в жизненные обстоятельства.
— Переезжай ко мне, места много, — скоропалительно, предложил я.
— Ага… сейчас… — впал он во фрондёрство, давая понять, что ни в коем случае, хуже только будет.
Я любил его в таком максимализме. Он был редким экземпляром порядочного эгоиста, который, однако, обожал своих друзей из своего прошлого. Я тогда ещё не знал, что люди полны очарования до того самого момента, когда начинают матереть, после этого они делаются старыми, заезженными пластинками, с одними и теми же идеями, с одними и теми же разговорами, сосудистой деменцией в придачу и застарелыми болячками типа простатита. Лично я пытался избежать такой участи в боях под Мариновкой, но судьба распорядилась по-своему: я относительно жив и здоров и натаскиваю друга на семейное благополучие.
Вода закипела. Я бросил в неё пельмени, специи, сухой укроп и посолил. Божественный запах поплыл по кухне. Только после всего этого я отважился спросить, хотя у мужчин это не принято:
— А почему?
— А она против! — заявил он патетически, косясь на «арманьяк», как я не без опаски — на зелёную ящерицу Инны-жеребёнка, потому что то и другое сводило с ума.
— Против?! — удивился я, смешивая ему «арманьяк» со «швепсом» в такой пропорции, чтобы он не захмелел раньше времени.
— Она считает, что я буду ей изменять направо и налево, — Валентин Репин поморщился то ли из-за моих инсинуаций, то ли из-за домыслов своей жены.
— А ты только налево, — посоветовал я, — в том смысле, что вдвое уменьшится риск разоблачения, словно Жанна Брынская была согласна с таким вариантом.
— Ещё чего! — флегматично возразил он и потянул простуженным носом.
Насколько я был осведомлён, Валентин Репин намеревался быть верным Жанне Брынской до гробовой доски. Быть может, только его планы за последние годы несколько изменились? Я не знал всех обстоятельств.
Читать дальше