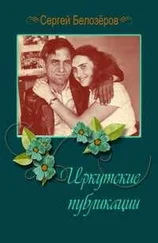— Можно!
Я вдруг понял, что время убивает не хуже пули, и быстренько продефилировал к машине, всё ещё находясь под впечатлением выходки Репина, дабы позорно сбежать с поля боя и предоставить Репиным самостоятельно разбираться в лабиринте своих трагедиях.
Тот, кто знает будущее, обречён тащит не один, а три креста. Я что ли заставлял его жениться на молодой, красивой и здоровой женщине, а потом, когда у него возникли проблемы с солнцестоянием, а на горизонте замаячил «трибулус-кунтикус» или что-нибудь ещё из рекламы для мужчин, он начал ревновать Жанну Брынскую ко всем своим друзьям-приятелям и сигать с пятого этажа. Это не по адресу, то бишь не ко мне, я не бог и не сын его, я всего лишь слабый человек, у которого нервы к тому же далеко не в идеальном порядке. Кто бы меня утешил?
— Хорошо! — неожиданно в тон мне отозвалась Жанна Брынская.
Я оглянулся, как оглядываются на огнедышащий болид в последний момент жизни. Жанна Брынская смотрела на меня с нескончаемой тоской, наверняка понимая, что останется при пиковом интересе, если взовьётся на дыбы, и тогда ей не видать ни Валика, ни прежней счастливой жизни, ибо такие рубежи просто так не пересекаются, и цена их так высока, как может быть высока планка, которую ты необдуманно завысил, но так и не перепрыгнул, и всю жизнь ходишь под ней и пригибаешься, и пригибаешься, и ещё раз пригибаешься; конечно, это раздражает и низводит до посредственности, но кто виноват? Кто? Ножку надо было задирать выше, а не толстеть от сытой жизни и привыкать к её размеренной обыденности.
Безусловно, Жанна Брынская была права, но и Валентин Репин тоже был прав. А две правды просто обязаны договориться, если хотя быть вместе. Я не знал, что посоветовать, да и стоило ли? Своих проблем был полон рот; сел в машину и укатил куда глаза глядят — от их несчастий, к своим трагедиям.
* * *
У меня были весьма туманные соображения, как поступить с Гариком Княгинским. Я готов был разорвать его на части, но это было самым простым и очевидным; и очевидно же, что после этого мне рано или поздно светит небо в клеточку. Надо было с кем-то посоветоваться, тем более что в таких делах я был полным профаном; это тебе не окоп, где поймал врага на мушку и нажал на крючок, это Москва, чужой город, и бродов я в нём не знал. Радий Каранда пригодился бы для этого, как никто лучше, но он предпочёл куда-то пропасть, и я всё время получал один то же ответ: «Абонент недоступен, абонент недоступен».
Так думал я, направляясь в Тушино, когда тревожно зазвонил мобильник, и ещё не схватив его, я понял, что случилось что-то катастрофическое, потому, что по всем расчётам должна была объявиться Алла Потёмкина, чтобы раскаяться и пойти ни мировую, но, к своему удивлению, я услышал даже не голос Радия Каранды, что само по себе было естественно, а — Веры Кокоткиной:
— Михаил Юрьевич, Алла Сергеевна в больнице!
От такие новостей обычно в мошонке что-то отрывается и катится по салону аж в багажник.
— В какой?!
Я как раз сворачивал на Гиляровского и едва не поцеловал красную «мазду», резко вывернул руль вправо и вдавил педаль тормозов; однако, водитель «мазды» даже не заметил моих судорожных манёвров и преспокойно мелькал передо мной в своей музыкальной шкатулке, от которой за версту бухали низкие регистры и дрожали стёкла близлежащих домов.
— В центральной клинической номер один! — Расслышал я с третьего раза и надавил на педаль газа.
— Что с ней?
Музыкальная «мазда» осталась позади. У меня сразу возникло стойкое ощущение, что с Радием Карандой не всё в порядке.
— Какой-то мужчина толкнул её на лестнице и!..
— Она жива?! — Я не мог дождаться, когда Вера Кокоткина закончит свою длиннющую фразу, казалось, ей не было конца, и слова тянулись бесконечно долгие, как товарный состав стандартного формата.
— Да! — испугалась она так, что стала заикаться.
— Понял, — крикнул я в трубку, — еду!
Нет, я не ехал — я летел в нарушении всех правил, и к счастью, никого не подрезал, не загрыз, не подбросил в воздух, как тряпичную куклу, и судьбы хранила меня, когда я, визжа тормозами, выскочил на красный свет.
Через полчаса я взбежал на высокое крыльцо, а ещё через пару минут, которые потратил, чтобы напялить бахилы, уже держал её за нежную руку, и понял, что прощён — давным-давно и навечно, и что я самый большой на свете болван, хотя её прекрасные синие глаза пытались разубедить меня в обратном.
Но самое страшное, что история отношений Валентина Репина и Жанны Брынской, а так же моя личная жизнь с Наташкой Крыловой меня абсолютно ничему не научили, а ещё где-то на уровне подсознания моталась Инна-жеребёнок с малахитовыми глазами и копной русых волос. Я каждый раз начинал заново, едва ли перечёркивая предыдущее.
Читать дальше