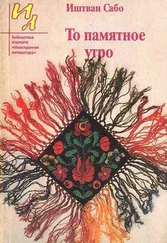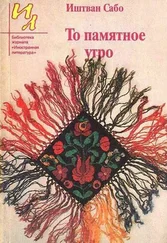— Такие вот дела, милая. Беднякам работать приходится, — говорит старая Гозиха, держа в руке нож. Уткам люцерну она как раз рубила.
— О, не такие уж вы бедные, тетя…
— Да с голоду не помираем, это верно… Только ведь…
Лили скоро встает, уходить собирается: что ж, не застала, так не застала. Прошлась немного, и то хорошо. Хоть из дому выбралась.
Петух кукарекает на заборе. «Кыш, дурень, чтоб тебя…» — ворчит на него старая хозяйка. Не за то, что кукарекает, а за то, что к соседям повадился. Вот и сейчас туда собрался. На своих кур смотреть не хочет…
— Я, тетя, узнать хотела, не мог ли кум завтра к нам прийти косить? Поденно, конечно…
— Не знаю, милая, не знаю. Скажу ему, как придет…
Уходит Лили. Выйдя на Главную улицу, колеблется: куда теперь, в какую сторону? Все ж таки поворачивает к дому. Больше некуда. У всех сейчас работы хватает.
Дома то же, что всегда. На веревке детские одежки сохнут, собака звенит цепью, поросята есть просят; Ребека, жена Ферко, идет через двор, чисто одетая, будто в церковь собралась. «Хорошо, что ты пришла, — говорит, — теперь я пойду».
— Куда?
— К своим загляну, как они там живут…
Часто она к ним заглядывает.
Пирошкину сыну восемь месяцев уже: крупный ребенок, пухлый, а ведь у Пирошки и молока-то почти не было. И все ж — вон он какой вырос. Правда, в последнее время мать… то есть бабушка, частенько мальчика подкармливает. Особенно если Пирошка с мужем в поле уходит, а сына матери оставляет. Сейчас, правда, Пирошка дома, пол в сенях мажет, а ребенок на крыльце сидит, без штанов, и кричит как резаный. Рубашонка завязана на спине узлом, руки, ноги, рот в грязи… и орет, не замолкает.
— Ты что с ребенком-то делаешь? Почему не дашь ему что-нибудь?
— А что ему дать? Я еще не варила.
— Не варила, не варила… Для ребенка всегда что-нибудь наготове должно быть. Грудью покорми, если другого нет ничего.
— Конечно… И так всю высосал, ветром качает.
— Как же, ветром… По тебе этого не скажешь! Иди ко мне, маленький. Иди к бабушке. — Садится она с малышом на скамеечке. Грудь достает, сует ему. Миклошка умолкает сразу, смотрит на бабушку с минуту, потом принимается жадно сосать. Сучит ножками, ручками машет, за подбородок бабушку хватает, а та хохочет, потому что грудь у нее сразу становится грязной от его рта и от пальцев. — Ты вот что… устроила я вам три-четыре хольда кукурузы…
Пирошка сразу забывает про пол, оборачивается.
— Как? За четверть? Или за треть?
— За треть, конечно. Как же еще! А остальное — дело ваше. Отдавать будете, когда захотите. Или когда сможете. Так, что ли, дитятко мое? — И гладит пухлые щеки малыша. — Как-нибудь позаботится о вас ваша бабушка…
Она и в самом деле заботится. Еще как заботится.
Будто опасается, что опередит ее кто-нибудь, — тащит от Тотов все, что можно. Скажем, от ужина суп остался или мясо, — тут же прибежит, принесет. Пекли что-нибудь — надо отнести немножко бедным детям… Если нет ничего под рукой, так хоть хлеба кусок притащит, ну а к нему — сала кусок. Конечно, потихоньку старается это делать, чтобы старики не видели. А еще что придумала: берет из-под гусыни яйца, несет Пирошке, из-под Пирошкиной же гусыни к Тотам уносит. Потому что у Тотов гуси лучше, породистее… Да уж они с Лили не успокоятся, видно, пока не растащат все, что старики собрали.
Геза с Лили в крайней горнице живут, Ферко с Ребекой — в угловой. То есть, можно сказать, Ребека тут одна живет с сыном; Ферко только ночевать приходит. Первое время и свекровь заходила, да Ребека ее быстро отвадила.
— Ой, мамаша, опять вы всю грязь принесли, какая на дворе есть, — говорила ей каждый раз.
— Где? Где грязь? — смотрит старуха на свои туфли.
— Да вот же. И вот. Глядите, — показывает Ребека ей под ноги, на пустое место. Та наклоняется, смотрит, смотрит… Потом вздохнет и уходит. Ладно, они еще попросят, чтобы она сюда пришла. Со стариком, конечно, по-иному надо обращаться, он вздыхать не будет. У него тут все свое, кровное… Ему Ребека говорит: — Не сердитесь, папаша, выйдите, пожалуйста, на минутку, мне тут… — и краснеет стыдливо.
Старый Тот во всем этом плохо разбирается, видит, конфузится баба, и думает: о каких-то тайных женских делах идет речь. Скажем, о ночном горшке под кроватью. Или, может, одеваться ей надо или раздеваться, трусы менять, рубашку… Сдвигает Габор шляпу на затылок и выходит раздосадованный. И в другой раз дважды подумает, прежде чем зайти.
Даже Ферко долго вытирает сапоги, входя в горницу. Про него не скажешь, правда, что он этим недоволен. Он даже рад: смотрите, мол, какая у него жена — вся из себя чистая. Как вымытый стакан.
Читать дальше