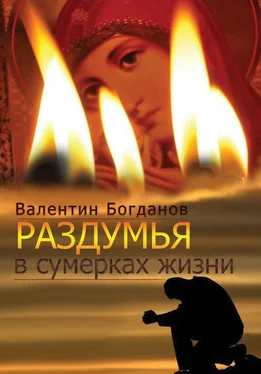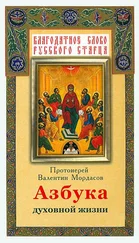Вот из этой красной мути и объявились тогда пришлые безымянные и злобствующие люди, без роду, без племени, без кола и двора, и назвали себя красными воронами, а обмершую от страха державу – Гегемонией, хотя раньше она называлась по-другому, да вскоре многие позабыли об этом, а кто поминал, тому скорехонько память начисто отшибали. Беспамятство с той поры всех одолело.
Вскоре на своей шкуре испытали гегемонцы, какое воронье было клювастое да когтистое и до чужого добра загребастое, спасу нет. Сразу-то и принялось голосистое воронье зазывно каркать во всю глотку о скорой светлой жизни, какую они сотворят прямо из сказки, если люди им поверят, отрекутся от Бога и креста и нажитого добра. И так задурило воронье своим карканьем головы поникших от страха и нужды людей, что и впрямь отреклись они от Бога и креста и нажитого добра, а вышло – и от самих себя.
Много лет дурило воронье доверчивых людей несбыточной сказкой о счастливой светлой жизни, и чем гибельнее она становилась, тем яростнее надсаживалось воронье своим карканьем о приближении райской жизни, которая, как тень в ясный день, все ускользала и ускользала, сколько ни гонялись они за ней, как малые дети.
Вот и вспучилась вся Гегемония от края и до края, как не раз бывало, многолюдными сходами разъяренных, доведенных до отчаяния людей; снова и снова колыхались вразнобой над ее необъятными просторами дреколья с красными полотнищами, будто ожившая земля разом замигала зоревыми всполохами, разрывая беспросветную муть опостылевшей жизни.
Долго ли, коротко ли гегемонил взбудораженный народ, всякое там бывало: и за грудки в кипучей ярости хватались, и мать-перемать зло и безбожно поминали, и все же совместно решили тогда, что первым выборным царем быть Мусаилу Первому, самому голосистому из вороньего племени, который взлетел в ту смутную пору на самую верхушку власти. Вот и нарекли его Мусаилом Первым, как исстари водилось именовать коронованных царей, и, как потом вышло, оказался он последним.
Однакося недолго усидел Мусаил на царском троне, шибко замороченно болтливым оказался на деле, сыпал словами, как семечки лузгал, вроде недержанием языка страдал, и из-за этого много всякой вредности стало случаться в растревоженной державе. За короткий срок он беспутно истощил державную казну, приблизил голод и разруху, на потеху и радость врагам, бездумно порастерял завоеванные предками земли, с которых в позорной спешке и стыдливости бежало некогда славное войско, побросав там наживаемое годами войсковое имущество. Беспутно у него все и вышло, что, не сделав ничего заметного для улучшения жизни людей, Мусаил Первый умудрился непонятно как натворить много бестолковых и шибко худых дел, какие после того самым многожильным потомкам долго придётся расхлебывать, а как расхлебают – так будут поминать его худыми словами.
Поначалу Мусаил Первый все ловчился да пыжился придать красному воронью человеческое лицо и даже духовно очеловечить клювастых да когтистых, а те в лютой злобе ответно исклевали да обмарали его всяко, и теперь только и утирается, обиженный, и что-то временами языком наворачивает, все пустомелит и пустомелит, да никто его уже не слушает – надоело.
Грешно это, но нынче больше его поминают с насмешкой да с ядрёным матерком, будто и царем никогда не был. Такая вот нескладная притча вышла с Мусаилом Первым в растревоженной Гегемонии, будто в назидание другим царям, какие после будут. Да ведь в Гегемонии никакой урок никогда и никому не шел впрок. И снова в который раз загегемонил всполошный народишко баламутными сходами да шествиями, своим горлопанством вынудило упорхнуть красное воронье с верхушки государевой власти вместе с Мусаилом Первым.
Тогда-то и набрался решимости доведенный до отчаяния народ выбрать себе царя из своей холопской челяди, чтобы в лепешку свой был и служил бы им верой и правдой. Такой и нашелся. Выбрали тогда бывалого и удачливого мужика Емелю, по батюшке Простокишина Емельяна Смутьяныча, из крестьянского роду племени. И хоть небогат был умом Смутьяныч и нескор на подъем, да простоват был душой и беззлобен сердцем, и совесть свою крестьянскую к той поре еще не порастерял, держался на людях пристойно. По правде сказать, отчество Емели уже и не помнили, а Смутьянычем прозвали его за удалой баламутный характер: где какая-нибудь заваруха – он там первый свою правоту доказывает. Еще тогда в царевыборной лихорадке безошибочно учуял народ, что всеми своими повадками смахивает Емеля на того отчаянного атамана-разбойника из дикой степи, что в седые времена вздыбил зипунный народишко схватиться за вилы и топоры и с разбойничьей удалью повел их степями да урманами добывать у державной власти волю. И эта его схожесть с тем удалым атаманом-разбойником и подневольная, захудалая жизнь под красным вороньем изводила изможденному народу душу. Нет, не случайно народ был разбужен тоской по былой вольнице, которая жгла и зудила их память, будила молодецкую удаль и отвагу, поселяла в них великую надежду на скорые и крутые перемены в жизни, какие теперь учинит народный царь Емельян Смутьяныч, в лепешку свой, их надежда и опора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу