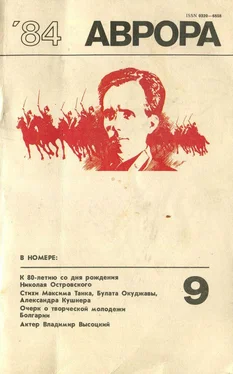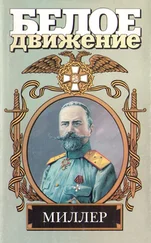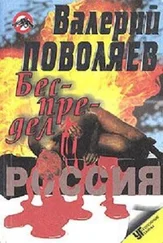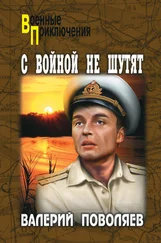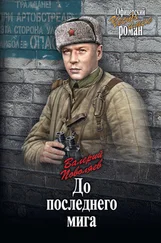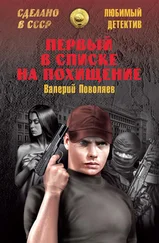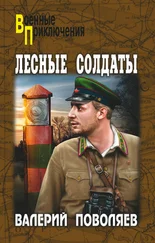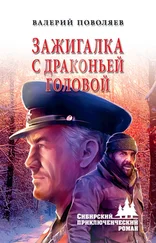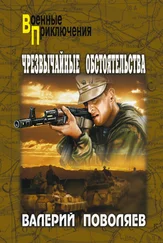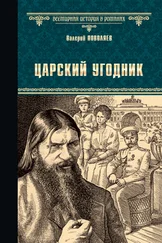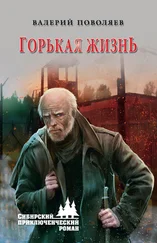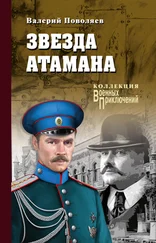А когда он напряжен до предела, сжат, как пружина, то и отбор мыслей, слов идет более точный. Жестокий идет отбор, если хотите. Во всяком случае, страницы, которые были написаны Кузнецовым во время взлетов и вообще во время воздушных путешествий, редко потом приходилось править, они были точны и по языку и по мысли.
Хотя, конечно, работа в самолете, в гостинице, в холодном, неуютном, пробиваемом всеми сквозняками доме колхозника в каком-нибудь райцентре или, напротив, в уютном отеле, как здесь в горах, либо за рубежом где-нибудь, на крохотном островке отдыха — штука насильственная. Не от хорошего она, так сказать. Все это когда-нибудь обязательно скажется. На собственном здоровье, на качестве текста. Но пока — тьфу, тьфу, тьфу три раза через плечо — организм терпит и все получается. Как удавалось и все то, что когда-либо задумывал Кузнецов.
У него были случаи в жизни, когда он хотел бросить газету, штатную работу, засесть за письменный стол, за книгу, стать писателем, но ничего путного из этого не получилось, желанье осталось желанием: и книгу он не создал, и писателем не сделался. Оказывается, человек, который привык к штатной работе, к тому, что надо бежать утром в учреждение, толкаться в метро, обрывать себе пуговицы на пальто, висеть на поручне трамвая, давать сдачи, когда тебя очень уж сильно прижимают, выполнять утвержденный раз и навсегда распорядок дня — в общем, человек, отравленный службой, уже не в состоянии бывает изменить что-либо. Служба, кстати, влияет и на его письменный стол, держит в рамках, заставляет работать.
Казалось бы, уйдя на «вольные хлеба», отказавшись от учрежденческого, газетного давления, твори себе на здоровье, ан нет — самыми непродуктивными, пустыми были те годы, когда Кузнецов ушел из газеты и занимался «чистым» творчеством. Выдавались дни, когда он не мог написать ни одной строчки: голова была пустой, как вымытая кастрюлька, пальцы вялыми, безвольными, из них просто-напросто выпадало перо.
Тут воспоминание отступило в сторону, уползло в синеватые яркие горбушки сугробов, растаяло там, и Кузнецов снова увидел собаку, стоявшую перед ним. Содрал с шампура еще один кусок мяса, кинул ей.
Собака осторожно взяла, подержала кусок в зубах, ожидая, когда он остынет; пар, неожиданно поваливший из ее пасти, был похож на дым, который желтое горное солнце не замедлило окрасить в нежную младенческую розовость. Кузнецов слышал где-то, что собакам и кошкам нельзя давать горячую пищу, от этого у них теряется чутье, глохнут инстинкты, но почему-то не придавал этому значения, а оказалось — надо придавать. Нельзя давать собаке дымящееся мясо, если не хочешь ее угробить.
Подержав немного мясо во рту, собака проглотила его. Кузнецов улыбнулся собаке, словно та была человеком и понимала что к чему, подумал сожалеюще, что собака все равно, как он ни старается, не понимает его. Но собака прекрасно понимала его, в ответ она благодарно улыбнулась. А Кузнецов за эти считанные секунды снова успел унестись в мыслях далеко-далеко и не заметил улыбки собаки. Кузнецов думал о том, что когда бывает начата литературная работа и перо хорошо, без препятствий скользит по бумаге, не задевает за остья и твердые волокна, если мысль идет гладко, то не надо этого бояться. Некоторые почему-то считают, что надо бояться, серятина, мол, выйдет… Не надо. Нужно писать, писать, писать — до тех пор писать, пока перо не остановится само.
Он осмысленными глазами посмотрел перед собой, вновь увидел собаку, нетерпеливо стучавшую передними лапами по утоптанному, твердому, как асфальт, снегу, — видать, стуком собака хотела привлечь к себе внимание Кузнецова. Увидев, что Кузнецов остановил на ней свой осмысленный взор, собака улыбнулась человеку. Кузнецову захотелось встать и погладить ее по голове, но вместо этого он содрал с погнутого алюминиевого стержня еще один кусок мяса, уже остывшего, растерявшего дым, кинул собаке, другой кусок стянул зубами для себя, съел, запил вином.
Вино было в самый раз — ни кислым, ни сладким, хорошо подходило к мясу, утоляло жажду и вызывало легкий шум в голове.
Рядом появилась компания: два парня в узких, с кожаными наколенниками и высокими молниями лыжных брюках, в каких ездят только мастера спорта, в фирменных ботинках «динафит», украшенных прочными хромированными пряжками, похожими на застежки какого-нибудь старого бабушкиного сундука, лыжи у парней были блестко-желтые, с угольной надписью «хага» — крупной, заметной издали — и буковками помельче — «Саппоро». Ни у кого на горе наблюдательный Кузнецов не видел такой экипировки и японских лыж «хага». С парнями находилась девушка, высокая, тонкая, с веселым открытым взглядом, в горной шапочке «а ля тролль», пересеченной понизу вязаной лентой с надписью «Остеррайх» — Австрия. Наверное, в Австрии эта шапочка и была куплена. Она сбросила шапочку с головы, тяжелые волосы латунной волной упали на плечи. В горы всегда приезжает много красавиц, они собираются сюда, будто на парад мод, привозят с собою украшения, туалеты, демонстрируют их по вечерам в местном ресторане, в котором можно недурно поужинать, — недоступные, полные собственного достоинства, изнеженные, с таинственным светлым блеском глаз, едва скрываемым притемью ресниц… Может, они приезжают сюда на поиски своей судьбы, своего принца? Тогда к чему же эта недоступность— желание быть не среди людей, а парить над ними?
Читать дальше