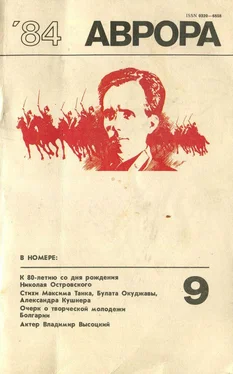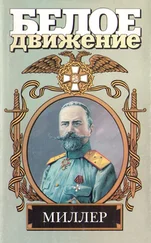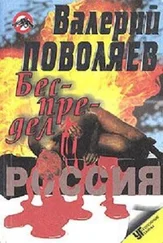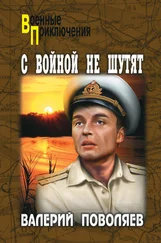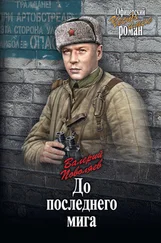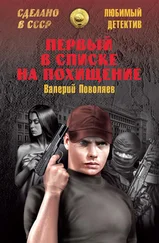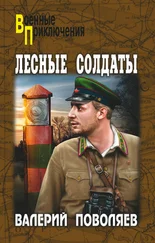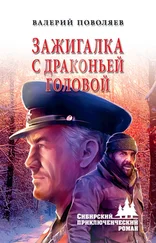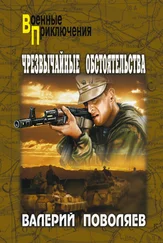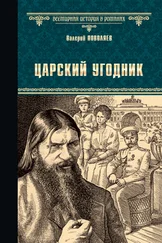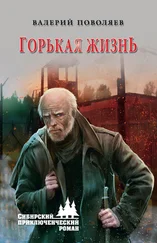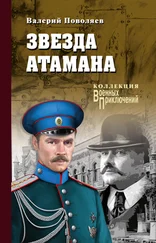Распрощались друзьями. Юрий жил в Нальчике, пригласил к себе Кузнецова, Кузнецов записал адрес и обещал обязательно побывать у него, но не успел — Юрий по каким-то своим делам поехал в Баксанское ущелье и там, в горах, угодил под камнепад. Кузнецов, когда услышал об этом у себя в Ленинграде, долго сидел неподвижно, чувствуя свою вину перед славным парнем Юрием и острую, неотвязную тоску — очень обидно, что ему не удалось съездить в Нальчик, повстречаться с этим человеком — покровителем животных. Ведь и повод был, и за командировкой дело не стало бы: газета, в которой работал Кузнецов, была крупной, посылала корреспондентов в разные города, в общем, проблем не было бы, но… Не спелась, словом, песня.
Очень часто, когда нам бывает больно, когда умирает кто-нибудь из близких людей — впрочем не только близких, достаточно того, что этот человек был просто-напросто знаком, вместе довелось всего один раз пообедать, — в ушах начинает бить печальный погребальный колокол, любой, даже самый светлый, солнечный день делается сумрачным, а в мозгу вспухает, изгибается горбушкой вопрос: «Как быть, как дальше-то быть? Как жить?» Извечен этот вопрос: «Как жить дальше?» Все берутся ответить на него, дают бесплатные советы, пользуются готовыми и вроде бы безошибочными рецептами, формулами, но за тысячи лет существования человечества никто правильно на этот вопрос так и не ответил. На него нет ни одного правильного ответа и вместе с тем существует несколько миллиардов правильных ответов — ровно столько, сколько людей живет на планете.
А между тем делать-то нечего, в жизни знак вычитания — один из главенствующих, был человек — и нет его. Лей слезы — не лей, скули — не скули, печалься — не печалься, а поделать ничего не поделаешь: люди уходят, освободившиеся места занимают другие.
Через два года Кузнецов прилетел по делам в Нальчик, оттуда поехал в Баксанское ущелье, а потом дня на три-четыре завернул в Терскол: надо было малость отдышаться от бесконечных дел, от командировки, прийти в норму, послушать собственное сердце, на людей посмотреть, поразмышлять немного.
Погода стояла весенняя, какая-то радостная, с голосистыми ручьями и теньканьем пичуг — то самое состояние природы, которое делает человека хмельным, угрюмого превращает в весельчака, нытика — в неунывающего непоседу, злобного — в добряка; состояние духа в такие дни бывает под стать природе, возвышенным, поэтическим.
Да и праздник весенний, подходящий для возвышенного состояния души подоспел — Восьмое марта. Все повалили на гору Чегет, на верхотуру, автобусы с туристами приехали даже из Пятигорска, из Минеральных Вод — всем было интересно, что станут вытворять на мартовском карнавале горнолыжники. Горнолыжники постарались, устроили состязания, выставили две команды — «пельмешек» и «худышек». Инструктор первой команды — он же, естественно, и капитан — был полным, как пельмень, с лоснящимися розовыми щеками, украшенными глубокими девичьими ямочками, инструктор второй команды — жилистый, тонкий, как ствол дерева, тянущийся к свету, на лице распустились двумя черными цветками огромные глаза, которые, честно говоря, должны были достаться какой-нибудь женщине, зато нос был настоящим мужским, горбатым, с сизым помороженным налетом, смотрел вбок, придавая лицу владельца драчливое выражение.
Чего только не вытворяли «пельмешки» и «худышки»! Быстрехонько расставили вешки с красными флажками — маркировка трассы — и пошли, и пошли изголяться. Кто быстрее проедет между вешками на одной лыжине, кто скорее, одолеет расстояние, пардон, задом; в следующий заход — то же самое, только с повязкой на глазах, потом на трассе появились две составные «коровы» — в каждую корову входило по шесть человек. Лыжников накрыли попоной, к попонам пришили по карикатурной рогатой и ушастой морде, одна голова была синяя, другая красная, «коровам» дали старт, и они поехали с горы вниз.
Хохотали так, что над Эльбрусом даже поднялось густое белое облако — видать, от сотрясения воздуха там хлопнулась лавина.
По трассе вихрем носилась ведьма в рваной юбке, с помелом, зажатом между коленями, крикливая, лихая, с седыми патлами, выбивающимися из-под старого платка. Ведьма сверкала очами, дергала «коров» за хвосты, одну даже завалила набок, потом загребла ведром снег и обсыпала им толпу зрителей. Ведьма веселилась.
Завалившаяся «корова» так и не дошла до финиша: что-то нарушилось в сцепке фигуры, ребята, составлявшие ее, не смогли сориентироваться и «корова» распалась на части. Из-под обвядшей попоны вымахнуло несколько лыжников, сама попона плоско легла на снег, синяя коровья морда скособочилась и сделалась грустной.
Читать дальше