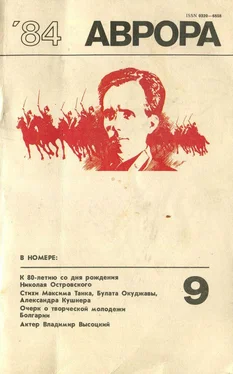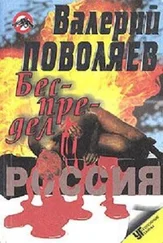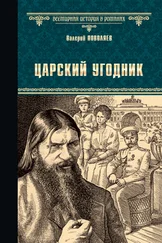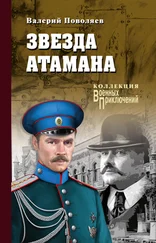Решив, что с него хватит этого веселья, Кузнецов протиснулся сквозь толпу и двинулся к канатной дороге. И зрелище ему уже наскучило, и пора было спускаться вниз, не то очередь у домика канатки выстроится длиною километра в полтора, до вечера тогда не уедешь. Сел в железное кресло-скамейку, раскачиваемое ветром, и неспешно, словно бы купаясь в яркой голубой тиши, поплыл вниз. Скрипел на стыках опор толстый промороженный канат, снег слепил, колко бил в глаза, полыхал яркими взрывами, небо было высоким и до звона в ушах синим, тени тоже были синими, яркими, как ультрамарин — предзвездная масляная краска, столь чтимая художниками-импрессионистами. Кузнецов любил импрессионистов. Особенно Эдуарда Мане.
Земля то уходила из-под кресла далеко вниз, делалось немного страшновато, в голову закрадывалась невольная мысль: а вдруг кресло, прицепленное к канату какой-то ненадежной рогулькой, сорвется, ухнет вместе с Кузнецовым — костей тогда не соберешь, — хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть высоты, но Кузнецов спокойно смотрел вниз, потом земля приближалась и надо было уже подбирать ноги, чтобы не зацепить ими за какую-нибудь обледенелую снеговую горбушку.
Внизу, около гостиницы «Чегет», шла своя жизнь — может быть, не такая яркая, как на горе, но доставляющая удовольствие, — тут и обстановка была какой-то домашней, уютной. Горские старушки с ссохшимися коричневыми лицами торговали носками, шапочками и свитерами, связанными из козьей шерсти, от самодельных прогорелых мангалов вкусно пахло жареным мясом, гордые ребята в огромных кепках-аэродромках предлагали отведать шашлыка.
Кузнецов взял два шашлыка, стакан зеленоватого, с паутинами взвеси вина, горячую мягкую лепешку и сел в стороне на старый ящик из-под яблок.
Шашлык, как понял Кузнецов, был козьим — ни на бараний, ни на говяжий он не походил, но все равно был вкусным.
Откуда-то из синевато-светящихся, оплавленных поверху золотой корочкой сугробов появилась собака с внимательно-умными светлыми глазами, широким лбом и длинной вытянутой мордой, на которой, как два опасных пистолетных ствола, темнели ноздри. Кузнецов подмигнул собаке, содрал с алюминиевого гнутого шампура кусок мяса, кинул ей. Собака осторожно взяла кусок мяса, поваляла его немного в снегу, чтобы он остыл, съела и выжидающе уставилась на Кузнецова. А Кузнецов уже не видел ее, он погрузился в свои мысли.
За годы службы, в бесконечных мотаниях по командировкам «сегодня здесь — завтра там», когда бывает неизвестно, какое «там» выдастся житье-бытье, журналист Кузнецов научился писать где угодно, в любом положении: лежа, стоя, сгорбившись на четвереньках, в самолете, в поезде, расположившись на второй плацкартной полке, в автобусе, в машине, положив на колени плоский портфель-дипломат, будто бы специально приспособленный для этого, в электричке, на палубе скрипучего морского теплоходика, безуспешно пытающегося одолеть отлив, — в общем, Кузнецов умел работать в любой обстановке.
Он сумел бы работать, наверное, даже в висячем положении. Кстати, так оно и случилось в одной из командировок, где он поселился в крохотной, битком набитой людьми гостиничке далекого курильского поселка. Свободных мест в гостиничке не было, теснота невероятная, выселять ради приезжего корреспондента никого, естественно, не стали, да и сам Кузнецов не позволил бы это сделать, поэтому ему отвели в узком шумном коридоре гамак. Там он и спал, там и писал. В висячем положении.
Когда пишешь, из-под пера выходит много мусора, шелухи, ненужных слов, которые потом приходится вычеркивать, либо менять на другие слова, более точные. Но вот какая вещь — наиболее верный и выразительный текст у него получался, когда он работал, например, в самолете. Особенно в тот момент, когда самолет, вырулив на прямую, делал длинный тяжелый разбег, отрывался от земной тверди и вострил нос в голубую небесную высь. Кузнецов успевал в эти несколько минут написать целую страницу. Любой пассажир в момент взлета бывает собран предельно, наверное, так же, как и пилот, ведущий громоздкую махину, и, вполне возможно, так же, как и пилот, теряет свой вес. Никто этого, конечно, не проверял, да и вряд ли необходимо проверять, но люди за многие годы существования самолетов так и не привыкли летать. Увы. Они так же, как и прежде, боятся терять привычную твердую опору под ногами, переживают, страдают, когда оказываются в воздухе, повисают там. Видимо, человек так уж устроен: воздух не его стихия.
Читать дальше