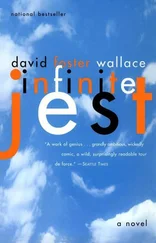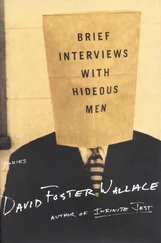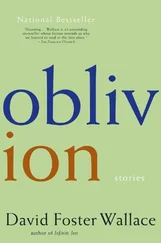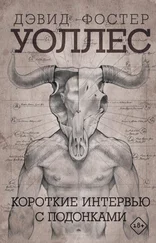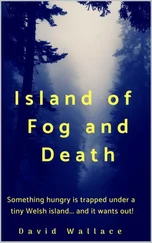Орин Инканденца был всего лишь вторым парнем, который осмелился заговорить с ней как мужчина с женщиной 307. Первым стал слюнявый и полуслепой от пунша «Эверклир» кентуккийский лайнмен «Кусачих поросят» Шайни-Прайза еще в Шайни-Прайзе, штат Кентукки, на пикнике, куда клуб поддержки команды пригласил чирлидерш и жонглерш жезлом; и лайнмен выглядел точь-в-точь застенчивым мальчишкой, когда признавался – через извинение, что чуть не попал на нее, когда его стошнило, – что от ее охрененной красоты так и каменеешь и не можешь заговорить с ней в каком-либо другом состоянии, кроме как залив глаза и страх. Лайнмен признался, что всю команду при виде красоты лучшей жонглерши поддержки в школе, Джоэль, охватывает парализующий ужас. Орин признался, какое у него было для нее секретное прозвище. Память о том школьном полдне не изгладилась до сих пор. Она как сейчас чувствовала дым мескитного хвороста, и синие сосны, и отраву от насекомых, слышала визг скота, который забивали и свежевали для пикника в символическом жертвоприношении перед матчем открытия против «Риверменов» Средней технической школы Сев. Падуки.
Как сейчас видела лайнмена-ухажера, признававшегося с мокрыми губами, привалившись к молодой синей сосенке, пока ее ствол наконец с треском не поддался.
До этого пикника и признания ей казалось, что это ее личный папочка отваживал – как-то – парней с попытками заговорить как мужчина с женщиной. Все было так странно, и одиноко, пока с ней не заговорил Орин, который и не думал скрывать, что, если речь идет о пугающе красивых девчонках, то он позвякивает яйцами из противоотказной стали.
Но дело было даже не в субъективной идентификации, которую она чувствовала, когда видела проблески и на первый взгляд немотивированные вставки, которые выдавали что-то большее, чем холодную выпендрежную техническую абстракцию. Как, например, 240-секундный кадр с «лягушачьей» перспективы «Экстаза св. Терезы» Джованни Лоренцо Бернини, который – да – тормозил драматическое движение «Брачного соглашения.» до раздражающей остановки и не добавлял ничего сверх того, что мог бы добавить точно такой же 15или 30-секундный кадр; но на пятом или шестом пересмотре Джоэль стала замечать важность четырехминутного неподвижного кадра из-за того, чего в нем не было: весь фильм был снят с ТЗ 308алкоголика – продавца упаковок для бутербродов, и алкоголик – продавец упаковок для бутербродов – вернее, его голова – присутствовал в кадре каждую секунду, даже во время титанического небожительского марафона в семикарточный стад на таро занимал половину сплит-скрина: его закатывающие глаза, ямочки на висках и четки капель пота на верхней губе непрерывно накладывались на экран и восприятие зрителя. кроме четырех нарративных минут, когда алкоголик – продавец упаковок для бутербродов стоял в зале Бернини в Санта-Мария-делла-Виттория, и кульминационная статуя заполняла экран до всех четырех краев. Статуя, ее эстетическая данность, позволяет алкоголику – продавцу упаковок для бутербродов сбежать от себя, от своей надоевшей вездесущей запутавшейся головы, вот в чем суть, поняла она. Может, четырехминутный неподвижный кадр был не только артхаусным жестом или враждебной к зрителю ерундой. Свобода от собственной головы, своей неизбежной ТЗ – теперь Джоэль стала замечать малозаметный до скрытой степени эмоциональный импульс, ведь опосредованная трансценденция над собой – как раз то, что полагается темой декадентской статуи оргазмической монашки. Вот так после внимательного (и, признаться, довольно скучного) пересмотра в кэмповом абстрактном язвительном картридже обнаружился неироничный, почти моральный тезис: стазис кульминационной статуи фильма заявлял в качестве теоретической темы эмоциональный эффект – самозабвение как Грааль – и – в почти моралистическом незаметном жесте, думала Джоэль, бросая взгляд на экран в освещенной комнате, под кайфом, за уборкой, с перекошенным ртом, – заявлял самозабвение через алкоголь уступающим самозабвению через религию/искусство (ведь от употребления бурбона голова продавца постепенно раздувалась, ужасающе, пока под конец фильма не заходила за границы кадра, и в двери Санта-Мария-делла-Виттория ему пришлось протискиваться с трудом и унижением).
Но все это стало неважно, когда она наконец познакомилась со всей семьей. Творчество и пересмотры были лишь намеком – который обычно чувствовался благодаря небольшим разумным дозам кокса, помогавшим ей заглядывать в Творчество глубже, дальше и потому, наверно, даже без особой объективности, – нутряным предчувствием, что мнение обиженного пантера об отце было ограниченным, заторможенным в развитии, а то и вовсе оторванным от реальности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу