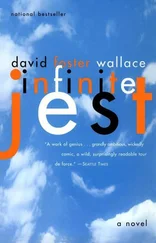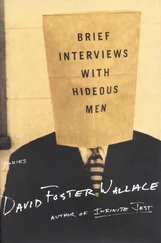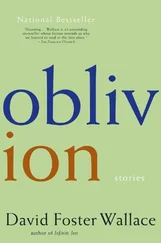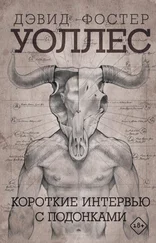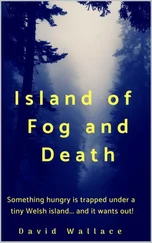Джима либо «Сам», либо «Чокнутый Аист» – семейные прозвища, от которых у Джоэль уже тогда бегали мурашки.
Именно Орин познакомил ее с фильмами отца. Его Творчество тогда было настолько малоизвестным, что даже не все местные исследователи серьезного кино знали его имя. Джим потому и создавал дистрибьюторские компании, чтобы, собственно, обеспечивать дистрибьюцию. Одиозным он стал только после того, как Джоэль с ним познакомилась. И к тому времени она стала с Джимом ближе, чем Орин за всю свою жизнь, отчего отчасти и возникала часть натянутых моментов, из-за которых в кирпичном многоквартирнике было так ужасно чисто.
У нее четыре года не проскакивало практически ни единой сознательной мысли о ком-нибудь из Инканденц до встречи с Доном Гейтли, из-за которого они почему-то всплывали в памяти постоянно. Это была вторая самая несчастная семья из всех, что Джоэль когда-либо видела. Орину казалось, что Джим его не любил как раз до такой степени, что даже замечал. Орин много рассказывал о семье, обычно по ночам. Как никакой пантерский успех не смоет психическое пятно простейшей отцовской нелюбви, когда тебя не видят и не признают. Орин даже не представлял, какими банальными и среднестатистическими были его проблемы-сродителем-того-же-пола; ему-то казалось, что это нечто чудовищно исключительное. А Джоэль знала, что ее собственная мать ее не очень любит с того первого раза, когда ее личный папочка заявил маме, что лучше они с Пусей пойдут в киношку без нее. Многое из того, что Орин рассказывал о семье, было унылым, затхлым от долгих лет страха признаться. Он приписывал Джоэль какую-то нечеловеческую отзывчивость из-за того, что она не убегала с криками из комнаты, когда он вываливал на нее свою банальщину. Пуся – семейное прозвище Джоэль, хотя мама всегда называла ее только Джоэль. Орину, которого она когда-то знала, казалось, что его мать была сердцем и пульсом семьи, лучом света во плоти, человеком такой горячей любви и материнской заботы, что почти компенсировала отца, который едва ли существовал, в родительском смысле. Внутренняя жизнь Джима была для Орина черной дырой, говорил Орин, а лицо его отца – пятой стеной в любой комнате. Джоэль изо всех сил старалась не заснуть и не терять нить, когда слушала, позволяла Орину выпустить затхлый пар. Орин не имел представления о мнении или чувствах отца по любому поводу. Он считал, что Джим прячется за матовым пустым выражением лица, которое его мать иногда в шутку звала на французском Le Masque. Он так пусто и безвозвратно скрывался в себе, что Орин даже стал представлять его аутистом, почти кататоником. Раскрывался Джим только перед матерью. Как и все в семье, говорил он. Она поддерживала каждого, психически. Она была светом и пульсом семьи, связывала их всех воедино. Джоэль в постели научилась зевать незаметно. Прозвище детей для матери было «Маман». Оно никогда не склонялось и не изменялось, как и она сама в их представлении. Его младший брат был безнадежно отсталым, сказал Орин. Орин вспоминал, как Маман по сотне раз на дню говорила, что любит его. Это почти компенсировало пустой взгляд Самого. Главным детским воспоминанием Орина о Джиме был равнодушный взгляд с большой высоты. Его мать тоже была очень высокая, для женщины. Он говорил, что считал довольно странным, как это его братья были такими низкими. Его умственно отсталый брат был от горшка два вершка, сообщал Орин. В грязной спальне Джоэль чистила за батареей там, куда могла достать, не касаясь батареи. Орин называл мать из своего детства эмоциональным солнцем. Джоэль вспоминала, как дядя ТиЭс ее личного папочки рассказывал, как ее личный папочка свою личную мамочку «чуть ли не в перл возводил». Батареи на женской половине Эннет-Хауса грели всегда, 24/7/365. Сперва Джоэль думала, что многоваттная материнская любовь миссис Аврил Инканденцы и сломала Орина, обострив контраст с отдаленным погружением в себя Джима, которое в сравнении и могло показаться непризнанием или неприязнью. Что, может, из-за этой любви Орин стал слишком эмоционально зависим от матери – с чего еще ему переживать такие душевные терзания, когда внезапно появился младший брат – с особыми ограниченными возможностями и потребностью в еще большем материнском внимании, чем Орин? Орин однажды ночью на футоне в их квартире вспоминал для Джоэль, как втихую брал и волочил мусорное ведро, и переворачивал, и ставил рядом с особой колыбелью новорожденного брата, поднимая высоко над головой тяжелую пачку «Квакер Оутс», чтобы размозжить головку этого ребенка, с которым все вечно возятся. За семестр до этого Джоэль получила пятерку с минусом по возрастной психологии. И зависимый еще и психологически, Орин, как будто, или даже метафизически – Орин говорил, что когда рос – сперва в обычном коттедже в Уэстоне, а затем в академии в Энфилде, – когда рос, делил про себя человеческий мир на тех, кто открыт, читаем, достоин доверия, и таких скрытных и замкнутых, что понятия не имеешь, что они о тебе думают, разве что только вполне можешь представить, что ничего такого уж расчудесного, иначе зачем скрывать? Орин признавался, что начинал замечать, как сам становится как раз таким скрытным, пустым и замкнутым, к концу юниорской карьеры, несмотря на панические попытки Маман спасти его от скрытности. Джоэль вообразила тогда 30 000 голосов стадиона «Никерсон» БУ, открыто ревущих в одобрении, – звук взмывает с пантом до какого-то амниотического пульса чистейшего позитива. Против степенных и сдержанных аплодисментов тенниса. Как же легко все было видеть и понимать, тогда, слушая, когда она любила Орина и сочувствовала ему, бедному несчастному богатому и многообещающему мальчишке, – все это до того, как она познакомилась с Джимом и его Творчеством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу