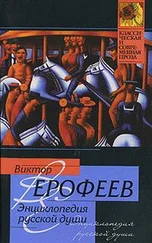— Вступишь в партию — разведусь!
— Жаль, — сказала мне бабушка в детстве. — А то была бы ветераном партии, по радио выступала бы.
В 1920-е годы супруги, вместе с полстраной, записались в брюзжащие обыватели, с мукой враставшие в социализм. У них-то и родился мой отец, который благополучно дожил до восьми лет и утонул на каникулах в Волге — чудом откачали. Отец кончил школу на одни пятерки, подал документы в железнодорожный институт, затем — в Арктический, а стал случайно учиться в третьем: пришло на ум поехать сражаться в Испанию добровольцем. Не имея призвания к филологии, равнодушный к «художественной литературе», он поступил на филфак Ленинградского государственного университета, чтобы во имя мировой революции выучить испанский язык. Худой, в единственной коричневой велюровой курточке, он уже был хорошо сложившимся советским человеком, волевым комсомольцем до мозга костей.
— Товарищ Ерофеев, — спросит его через десять лет Сталин в своем кремлевском кабинете. — Вы где родились?
Сталин, по словам отца, всегда говорил «очень глухо, и грамматически у него было много ошибок». Было четкое впечатление, недавно добавил он, что это человек «кавказской национальности».
Отец недорасслышал вопрос вождя:
— В Ленинградском государственном университете, Иосиф Виссарионович.
— Прямо так-таки в Университете и родились?!
В огромном, строгом кабинете с посмертной белой гипсовой маской Ленина на видном месте раздался резкий глухой смех. Отец вздрогнул от неожиданности. Сталин смеялся, хватаясь за бок, всем видом показывая: «ну, ты меня уморил!», «ой, не могу!».
Отец был замечен .
Его предшественник, переводивший Сталину с французского языка, был отстранен от работы, запутавшись в авиационной терминологии военной делегации из Парижа. «У меня такое впечатление, что я французский знаю лучше вас», — сказал ему Сталин.
— Ну, вы спокойно работайте, не волнуйтесь, — отсмеявшись, пожелал Сталин отцу на прощанье. — Я говорю не очень громко, вы можете переспросить. Зато я говорю медленно.
— Сталин держался скромно . — отметил отец. — На меня сильно подействовал его шарм.
Однако развеселить Отца Народов мой отец смог только потому, что в юности каждый год в середине марта он становился жертвой загадочных ангин с нарывами в горле и сорокаградусной температурой. Поступив на филфак, отец и не подозревал, что российская филология не менее опасна для жизни, чем Гражданская война в Испании.
«12 марта 1939 года я снова валялся в постели и страшно переживал, что из-за болезни не могу участвовать на вечеринке. Наша группа справляла день рождения однокурсника, поэта Сергея Клышко. Всех, кто был в тех веселых гостях, на следующий день арестовали как участников „антисоветского сборища“.
— Меня это потрясло. Но я знал, что Сергей не стеснялся в поведении, рассказывал анекдоты, читал „антисоветские“ стихи. Наверное, кто-то стукнул. Девушек вскоре выпустили, а ребята сели надолго, кому-то переломали ребра, отбили почки. Сергея приговорили к „вышке“».
— За стихи — к «вышке»? — меланхолично спросил я.
— Мне было ясно, что не стоило их читать направо-налево.
С этим было трудно спорить. Наш разговор пошел по кругу и быстро угас. Массового террора, который был вокруг, везде, рядом, о котором написаны тысячи книг, в моей семье не заметили. Он их «не коснулся». Не отмахнулись от него, не забились в угол, а — не обратили внимания. Как? Отец вышел в люди особого, внеиндивидуального зрения. Благодарность режиму за возможность высшего образования, движения наверх — ничто сама по себе. Они не использовали систему, как проходимцы, а пропитывались ею насквозь и видели ровно то, что она хотела, чтобы они видели. Они переставали быть , изначально подсознательно готовые к закланию. Система не столько убивала несостоявшихся поэтов, как это бывает при всех мало-мальски уважающих себя диктатурах, сколько питалась небытием. Жертвоприносительный террор был не прихотью, а логикой ее выживания, гениальным математическим выводом из разницы между обещанным будущим и человеческим материалом, отправленным на переделку. Успех мероприятия зависел как от русской податливости, так и от постоянного обновления, очищения от тех, кто держал в уме эту разницу. Будущее было как радостный вздох от снятия антиномии.
Я сначала удивился и понял — зря, когда отец сказал, что он не волновался в присутствии Сталина. В отличие от волновавшейся при виде вождя интеллигенции, у которой рождались от волнения анекдоты о Сталине, отец существовал одним из его продолжений , добавочным квантом света. Из этого положения трудно вернуться домой.
Читать дальше