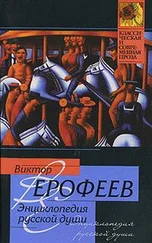Футбол — c’est les droits d’homme. Право человека на владение футбольным мячом соответствует спортивной конвенции умеренной агрессивности. Нельзя убивать и калечить нельзя, но подыгрывать противнику тоже нельзя: не принято. Да, но почему все же не принято убивать вратаря противоположной команды? Ведь such а murder, such a murder, such a murder (такое убийство) помогло бы венграм довести матч до астрономического результата в свою пользу. Польза — нужное, неволшебное слово. Или, напротив, всей командой начать забивать голы в свои ворота к некоторому удивлению французского рефери с симпатичными кривыми ногами, выросшими из какого-нибудь французского комикса и с многозначительными инициалами Ж.Д., вышитыми у него на груди (чем?) красной нитью, (кем?) любимой рукой жены-чешки.
Впрочем, удивление рефери могло быть вполне показным. Не он ли, подмигнув, шепнул мне во время матча (я вбрасывал мяч из-за боковой), что «самосознающая рефлексия, сколь бы долго она ни двигалась к цели, никогда не достигнет Итаки»? Это было не столько мне в утешение, не столько скрытая цитата, сколько прописная истина, известная еще по работам Шестова, но тот факт, что Ж.Д. на досуге работает рефери в черной форме, показался мне противоречием в себе, нарушением общезначимых правил аргументации.
— Все годится! Avanti! Anything goes!
Венгры же вели игру таким образом, как будто хотели возразить и задать вопрос:
— Значит ли это, что хайдеггеровское величие состоит в молчании перед лицом Освенцима?
Ах, в этом нарушении и был свой кайф, недоступный венгерской команде. Поскольку исподтишка они чинили насилие над «диссеминальной» реальностью (адепты лингвистического поворота рассматривают ее как языковую) и строго контролировали les effets du sens, венгры не могли остановиться. Им бы упасть и поваляться на мокрой после дождя траве с видом на дромские горы, принципиально отказываясь дотрагиваться до мяча. Или, на худой конец, устроить на поле коллективный гомосексуальный акт, мужскую гирлянду, мужеложскую пирамиду, вполне уместную на родине божественного маркиза. Болельщики, побросав зонты на фрейдистской подкладке, могли бы их поддержать.
Однако критика разума, если она желает сохранить хотя бы минимальную силу диагноза, не должна быть тотальной. Высморкаться под ноги — да, пожалуйста! вспотеть красивым мужским потом вместе с дезодорантом — черт возьми, да! да! но разборке до основания надо уметь сказать свое венгерское «нет».
Умеренная агрессивность венгров в любительском матче, их умеренное продвижение вперед, их плавные пассы, звуки голосов, горное эхо логоцентричных голов создавали мягкое впечатление жизненного континиума внедискретного свойства, то есть такого состояния жизненного полотна , на котором не обнаружить ни дыр, ни разрезов насквозь.
Жизнеутверждение человеческого достоинства и семантической предсказуемости одержало уверенную победу.
Я родился в 1947 году. У меня было счастливое сталинское детство. Чистый, безоблачный рай. В этом смысле я готов соревноваться с Набоковым. Я тоже был барчуком, только он — аристократическим, я же — номенклатурным.
В послевоенной полуголодной Москве бабушка звонила маме на работу с восторженным докладом о моем завтраке:
— Витюша съел целую баночку черной икры!
Папа приносил домой из кремлевского продуктового распределителя синие пакеты со вкуснейшей едой: хрустящие сосиски, тонкую «Докторскую» колбасу, буженину, семгу, балык, крабы («Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», — гласила одна из редких щитовых реклам того времени), халву, бледно-розовую фруктовую пастилу и прочие деликатесы. Иногда на пакете проступали темно-красные пятна это сочилась кровью свежая говяжья вырезка. До сих пор помню острый запах свежих пупырчатых огурцов с желтой завязью цветка в разгаре зимы с расписным от морозных папоротников кухонном окном. Кулинарная книга сталинских времен «О вкусной и здоровой пище» с элегантными коричнево-белыми фотографиями застольного изобилия, кулебяк, судаков по-польски, жаренных в духовке молочных поросят и грузинских марочных вин в нашем доме не выглядела издевательством над человеком. Я был худ и есть не любил. В борьбе за мой аппетит бабушка прибегала к вонючей пытке рыбьем жиром. Ее мечта превратить меня в толстого ребенка однажды осуществилась, и мы бросились, ловя момент, к фотографу, чтобы сняться в обнимку, прижавшись щеками. Привилегии, нежно клубясь, окутывали всякие стороны жизни: от бесплатного ежегодного пошива для папы модного костюма из привозного английского сукна, поликлиники с ласковыми докторами детских сказок, чистого, охраняемого подъезда, поскольку на нашей лестнице жил всесильный начальник сталинской охраны товарищ Власик, новогодних елок в Кремле с нешуточными подарками и театральных билетов на любые спектакли, вплоть до забронированного места на Новодевичьем кладбище.
Читать дальше