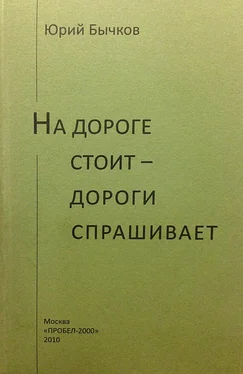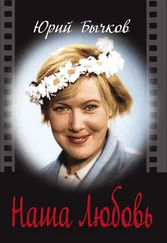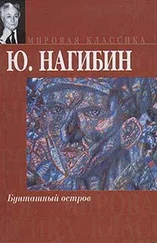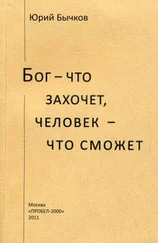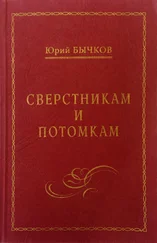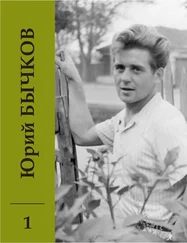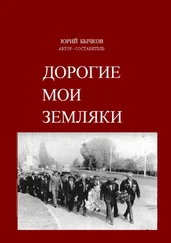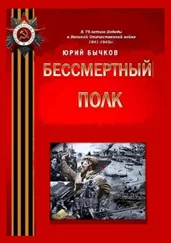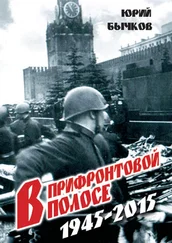– Архип Михайлович, кинули вы тогда наше общее дело на произвол судьбы. Коллеги попользовались. И у нас в стране, и за границей. А какой мог бы быть двухконтурный люльковский двигатель! То, что надо, для авиации: экономичный на небольших скоростях, например, при барражировании, и в нужный момент – рывок, за счет форсажа – сверхскорость!
– Так вы же знаете почему… Треба было дать машину, чтобы просто барражировать, а не атаковать. Не пропускать за нашу границу.
– Самолёты Сухого с вашим АЛ-7, одноконтурным, пошли тогда в серию.
– Превосходные самолёты…
– Может быть, вы правы в том отношении, что, если бы мы с вами не работали над совершенствованием одноконтурных машин, не ответили бы на требование дня. Как бы мы взялись одновременно и за двухконтурный? Извест но, одной рукой два предмета не ухватишь. А теперь есть истребитель СУ-27. Его ошеломляющий успех стал возможен благодаря вашему, Архип Михайлович, двигателю АЛ-31Ф.
Зимой 1954-55-го Архип Михайлович, появившись в дипломке, подруливал чаще всего к кульману Марка Вольмана. Люльке нравился тщательный, технически зрелый анализ высотно-скоростных характеристик двухвального ТРД в проекте Вольмана. По окончании учёбы в МАИ Марк был приглашён на работу в ОКБ А.М.Люльки, в бригаду перспективных разработок. Вольман умел находить подходы к оптимизации характеристик разрабатываемых двигателей. Когда в Опытно-конструкторском бюро Люльки притупили к проектированию АЛ-31Ф, руководителем по этой теме Архип Михайлович назначил своего заместителя Александра Васильевича Воронцова, а ведущим конструктором Марка Филипповича Вольмана.
Вместе с Вольманом в ОКБ-165 пришли мои товарищи по курсу: Амирджанянц, Емельянов, Сынгаевский, Яковлев. У каждого из них своя судьба, своя роль в науке и технике, каждому из них много дала школа Архипа Михайловича Люльки. Они в свою очередь внесли заметный вклад в создание лучшего турбореактивного двигателя эпохи.
Сегодня трудно, просто невозможно себе представить, как большие умы, крупные специалисты вставали в тупик перед идеей ТРД. Однажды у кульмана Игоря Яковлева я решился спросить о том, что моим товарищам будто бы понятно, известно с пелёнок.
– Архип Михайлович, как рождался РД-1, прародитель семейства АЛ?
– Когда-нибудь об этом будут книги написаны. РД-1 сулил переворот в авиатехнике. Реактивный? Без винта? Это казалось невероятным, фантастичным.
– А вот нам, дипломникам факультета «авиационное двигателестроение», представляется естественным…
Грянул дружный гомерический смех. Люлька жестом поднятой кверху руки остановил студенческое ржание.
– Вот вы какие умные и догадливые, а мне несколько лет кряду на дню пять-десять раз приходилось рассказывать, в чём суть и всё по порядку. Как сказку про курочку Рябу, про цилиндр с двумя дырками. Послушайте и вы ещё раз эту сказочку от самого автора. Даю схему. Воздух засасывается в приёмный канал осевым, со многими рядами лопаток, компрессором и сильно уплотняется перед входом в камеру сгорания. В камере он подогревается до высокой температуры за счёт сгорания топлива. Полученный таким образом газ расширяется и с огромной скоростью попадает на лопатки турбины, а турбина вращает компрессор, сидящий с нею на одном валу. Дальше путь раскалённых газов – в открытое сопло, наружу. Чем больше скорость и масса вырывающихся газов, тем больше тяга двигателя и, соответственно, скорость самолёта.
Да, многие в тот начальный период работы по созданию ТРД не понимали, как струя, входящая «во что-то», и выходящая «из чего-то», способна двигать самолёт. Психологический парадокс и только!
– Всё гениальное просто. Но не просто находятся гениальные решения.
– Нельзя не согласиться. От схемы, возникшей в моём воображении в 1937 году, до завершения госиспытаний в марте 1947-го прошло десять лет и каких! Одна война чего стоила!
– В связи с войной, что врезалось память?
Архип Михайлович не спасовал. Ушёл от банальностей.
– Помните, надеюсь, что в основе всего лежит теория. Случается, высокая теория выручает в самых что ни на есть приземлённых обстоятельствах. Расскажу, как было, по порядку.
В блокаду, осенью сорок первого, Кировский завод постоянно немцы бомбили и обстреливали. Выйдя из цеха, мы с инженером Вольтером попали под артобстрел.
– Давайте сюда, – крикнул Вольтер и, пригибаясь, побежал к остаткам кирпичной стены. Мы присели на корточки под этой стеной. Через две-три секунды меня осенило: «По теории вероятности…». Я скомандовал: «Айда вон в ту воронку!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу