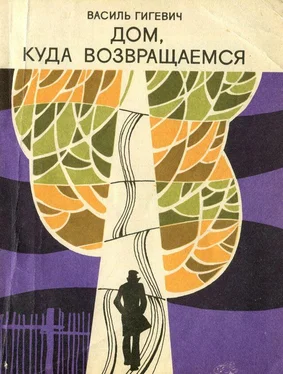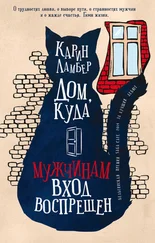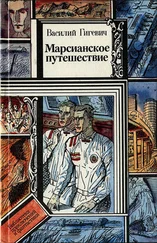После были слова в микрофон, а Сакович с болью смотрел, как не слушает молодежь эти слова — они слышали их и год, и два, и много лет назад… Люди стояли кто как хотел, некоторые становились в очереди за апельсинами, пятирублевой колбасой, пивом, пирожками, бутербродами, которые продавали поблизости в буфетах, говорили про обмен квартир, о машинах, должностях, окладах.
И только тогда все спохватились, когда к микрофону на костылях приблизился одноногий старик. Он говорил медленно, глухо, часто замолкал, вытирал платком лицо. Нескладно, путано говорил он про тот танк, который загорелся от «вражжего» снаряда, и как он, нынешний пенсионер, хотел спасти своего командира, и как командир, красный, обгоревший, скончался от боли на его руках… Старик, не стыдясь, плакал, размазывал по лицу ладонью слезы, никак не мог спокойно устоять на месте, и костыли его стучали о холодный камень…
У людей, которые только что стояли и смеялись, переговаривались о чем-то незначительном, мелочном, которые, как казалось, были безразличны ко всему на свете, кроме собственного спокойствия, глаза налились слезами — все неожиданно почувствовали единение с теми, кого уже нет на свете…
…Ходил весенним днем возле реки человек, мучительно искал ответы на вопросы, которые никак не мог решить. Ему иногда хотелось каким-то чудом отречься от себя, вырваться из своего времени, из своего века и перенестись в будущий век, где, как ему казалось, не будут терзаться люди… Наверное, по этой же самой земле за сотни лет до этого дня ходил когда-то другой человек и мечтал перенестись из своего времени в этот, двадцатый век.
Может, тут и не он во всем виноват — давайте не спешить с выводами, потому что теперь некуда спешить… Как на поезд, который давно ушел, а ты, не зная об этом, запыхавшись от усталости, с чемоданами в руках бежишь кривыми улочками к вокзалу и думаешь: хоть бы успеть. А потом стоишь один на перроне, глядишь на черные блестящие рельсы и думаешь: ну, пускай себе опоздал, но зачем было бежать?..
Начнем сначала, с самого начала, когда он, как любят повторять шутники, ходил под стол пешком.
Еще тогда, глядя на его личико, я задумывался над его жизнью — чем-то уже тогда он отличался от остальных житивских мальчишек.
С виду это был обыкновенный, послушный мальчик. Но эта его обыкновенность и послушание настораживали. Он мог и бегать, и кричать, и плакать, но, когда бы я его ни встречал, казалось, он находится за какой-то гранью, которую нельзя переступить. Все дети отгорожены от нас гранью непонимания, и это не мое открытие, но вот в том-то все и дело: такою же гранью он был отгорожен и от своих сверстников. Мне кажется, тут была односторонняя связь: он их понимал, а они его не понимали.
Уверен, что тут ни при чем его заячья губа, хотя, видимо, как только он научился говорить, — сразу же услышал на улице едкое и колючее: «Эй, заяц, иди, капусты дам». Когда ему пошел пятый год, кличка исчезла, больше ее никто не слышал, ибо отчаяньем и злостью он заставил одногодков замолчать, забыть эти слова. И еще через год уже сам верховодил ими.
И теперь представляю — все, как один, босоногие, с черными, хоть репу сей, пятками, штаны держатся на шлейках, перекинутых крест-накрест, у каждого старабок — тоненький железный обруч, который со звоном катит согнутая твердая проволока, — и вот они, как пчелы возле улья, с утра до вечерних сумерек носятся по улице, изредка вылетают на большак и там скрываются вдали, в клубах пыли, — сначала он, потом другие, и вот уже последняя пятка мелькает, и уже ничего не видно из-за седой пыли и оттуда, как из другой галактики, доносятся их непонятные крики и долгое, утихающее дззз-зинь… Как звон чего-то разбитого в твоей душе. И ты стоишь остолбенелый, вслушиваешься в этот звон — неясное, непонятное и давно забытое просыпается в тебе, хочется сразу же, по многолетней привычке, разобраться, но не можешь, так как между тобою и ими грань. И потому их можно слышать, видеть, удивляться им, но не понимать, — как рыб в аквариуме.
А потом он неожиданно, безо всякой причины, вдруг затихал, умолкая, как бы засыпал с открытыми глазами среди одногодков, а те вихрем неслись дальше, и тогда днями ржавел его старабок, и в тонком «ур-ра», доносившемся из кустов возле речки, не слышно было его голоса. Сначала это, может, никто и не заметил, но потом, когда он первым в Житиве завел голубей, на это обратили внимание.
Никто не знает, как он до этого додумался, — может, увидел в кино, которое раз в месяц показывали в их деревне, а может, по слогам прочитал в какой-то книжечке для детей, что, мол, так и так — есть такие ручные птицы, которые будут летать в высоком небе, а потом возвращаться к тебе, если им построишь голубятню.
Читать дальше