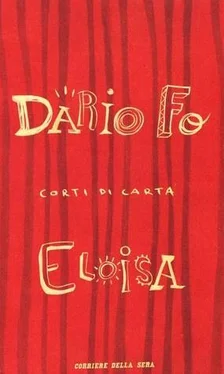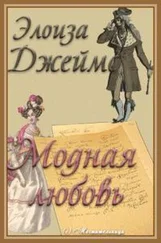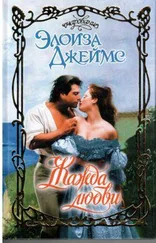Бывает иногда, что пока мы сливаемся телами в любовной неге, блуждая в поцелуях, я вдруг замечаю, что оконные шторы дрожат на ветру. И где-то в глубине души мне кажется, что сам Господь ревниво шпионит за нашей любовью, поскольку не было ранее преступления столь безумного и невозможного, как наше. Потому-то и хлопают возмущенно шторы, закрывающие свет.
Я не музыкант, но ты научила меня играть на скрипке и мандоле, для которых ты пишешь. Ты умеешь проделывать и другую невероятную метаморфозу: я сам превращаюсь в волынку.
Ты взрываешь летаргию моего духа и играешь на моей флейте, извлекая из нее потрясающие мелодии.
Ты ангел, умеющий танцевать, как искушеннейшая блудница.
Ты моя маленькая богиня ветра, поднимающая волны и взбивающая пену, чтобы я мог дельфином скользить по твоему телу, по твоей груди и ягодицам, издавая похотливые стоны.
Обнимая меня, ты возлежишь на моей маленькой кровати, как на цветущем лугу, где тонут наши страсти, и мы теряем себя, чтобы снова найти, каждый раз почти случайно».
Но, как говорится в старой поговорке, вздохи и стоны любовных баталий всегда заканчивается плачем ребенка: вскоре я поняла, что беременна.
Как сказать об этом дяде-аббату? Ему, который готов был поклясться на огне, что отношения между мной и магистром Сорбонны защищали нас от всякой похоти лучше стального меча!
На рассвете Абеляр пригнал быструю повозку и похитил меня. Я протестовала. Он зажал мне рот, поднял, завернул в свою широкую мантию, погрузил в повозку и приказал слуге погонять лошадей. Мы направились в Бретань. Поездка была ужасной, мы все время ругались, переходя на оскорбления, я даже схлопотала пощечину. Повозку трясло, колеса подпрыгивали на каждом камне. Я кричала: «Ты хочешь, чтобы у меня случился выкидыш? Это и есть твой план?»
Дом, где мы скрывались в Бретани, был за краем деревни, возле леса, неподалеку текла река. То были прекрасные дни. Мы были гостями его сестры: гуляли, собирали фрукты и пахучие ягоды. Сестра позвала старушку-повитуху. Мы обнаружили, что ребенок живет у меня в животе уже по крайней мере четыре месяца. Я чувствовала, что тело мое постепенно меняется: кожа стала гладкой, груди увеличились и набухли, живот вырос. В начале лета у меня родился красивый и здоровый мальчик. Я назвала его по-настоящему необычным именем: Астролябио, что значит «тот, кто обнимает звезды».
Это был замечательный, веселый и смышленый херувим. Мне казалось, что он даже родился с уже открытыми глазами, а смеяться начал еще до того, как смог лепетать звуки, отдаленно похожие на слова.
Нас навестил один из учеников Абеляра. Он принес новости о дяде Фульбере. Тот узнал о рождении моего сына от каких-то университетских студентов, распевавших под окнами Нотр-Дам насмешливые куплеты, более или менее напоминающие такие:
Фульбер, аббат премудрый
и ученый, как тебе нравится
отличная шутка, что с тобой сыграли:
от тебя скрылась
нежная и целомудренная твоя Элоиза.
Оплакиваешь ты девственницу-племянницу,
она же младая развратница с румяными щеками.
И чтобы свет пролить и принести большое утешение,
ты вставил свечку в заднее отверстие.
От юного ученика мы также узнали об отчаянии, в которое впал дядя-аббат: он был практически уничтожен и, чувствуя себя униженным, преданным, высмеянным, не покидал стен монастыря Нотр-Дам, запершись в своей келье. Часто можно было слышать его отчаянные вопли и стоны. Абеляр сидел понурясь, спрятав лицо в ладонях. Мне тоже было больно: мы думали только о своей радости, а в других не замечали даже тени расстройства.
Абеляр решил возвратиться в Париж и, рассказав Фульберу обо всем, молить о прощении. Я обняла его, меня тронул его смиренный и мужественный жест. Он сразу же собрался, подхватил маленького сына, поцеловал его, напевая что-то себе под нос, и пару раз подбросил в воздух, вызвав у ребенка поток взвизгиваний и смеха. Перед уходом он спросил, может ли он сообщить дяде о том, что собирается жениться на мне. Не ответив, я убежала, держа на руках нашего малыша, Астро... никто не мог собраться с силами и назвать его Астролябио.
Приехав в Париж, он пошел прямо в собор. Аббат служил мессу в единственной уже завершенной капелле. Абеляр дождался « ite, missa est » [4]и проследовал за ним в ризницу. Фульбер снимал облачение и не видел, как он вошел. Когда же последняя риза была снята, он увидел на расстоянии вытянутой руки лицо Абеляра, бледное, измученное. Величайший в известном мире мастер риторики не мог вымолвить ни слова. Они сели рядом на скамью. В конце концов заговорил аббат. Он не произнес ни обвинения, ни оскорбления.
Читать дальше