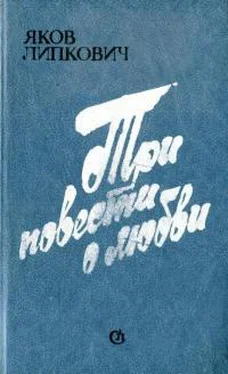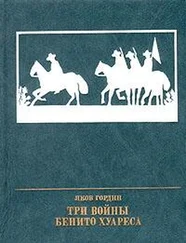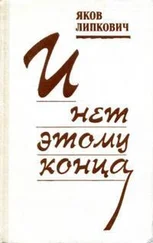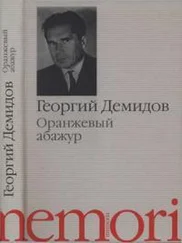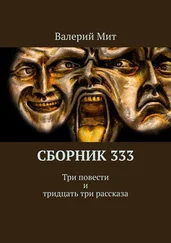Потом встал, потянулся обеими руками и подошел к Ипатову.
— Померьте мои тапочки!
У Ипатова тапочки были малы и все время спадали с ног. Увы, и Алешины шлепанцы вмещали лишь пол-ипатовской стопы.
— Ну, ничего. Тапочки — за мной! — пообещал Алеша.
Ипатов до глубины души был тронут этой заботой. Алеша вышел из палаты и отсутствовал с добрых полчаса. Вернулся он, уже держа в руках тапочки огромного, сорок пятого или сорок шестого, размера.
— А эти померьте!
Ипатов примерил.
— В самый раз!.. Алеша, ты где их взял?
— Махнул на свои.
— Как махнул?
— Как? Ты мне, я тебе…
— А подробнее?
— Ну, подробнее… Вижу идет один новенький, а на нем вот эти самые тапочки. Прикинул: вроде бы по ноге вам? А морда у новенького так и светится глупостью. Ну, думаю, грех не использовать эту даровую солнечную энергию. Говорю ему: друг, откуда у тебя эти тапочки? Старшая сестра дала. А ты знаешь, кто до тебя их носил? Кто, спрашивает? Да покойник один, говорю. Вон метка, знакомая. Он так и сел: правда? Ну да, с какой бы стати я стал тебя обманывать? Что же делать, а, спрашивает? А я ему: ладно, давай махнемся, меня все равно послезавтра выписывают!.. Ну и махнулись!
— Ну и гусь ты, Алеша! — сказал Ипатов.
— Не гусее других, — ответил тот. — Носите, только на ровном месте не спотыкайтесь!
— Постараюсь!
— А то один соблюдал диету, да попал под трамвай… Ну как?
— Хорошо, — ответил Ипатов, пройдясь по палате. — Спасибо, Алеша.
И тот, поощренный похвалой, тут же пообещал:
— Я вам до выписки еще халат сменю!
Незадолго до обеда в палату с шумом, едва не разбудившим Станислава Ивановича, ворвалась Машка.
— Па! Мама завтра вылетает! Телеграмма! — радостно сообщила она.
У Ипатова почему-то вдруг ослабли, стали ватными ноги, вспотели ладони.
— Дай! — он взял телеграмму, и его взгляд сразу же споткнулся о слова, к которым госпожа продюсер прибегала лишь в крайних случаях, когда, к примеру, в ее отсутствие болели дети: «…чрезвычайно обеспокоена состоянием здоровья отца… второй день не нахожу себе места…» А в заключение коротко и деловито сообщала: «Завтра вылетаю первым рейсом. Ирина». Даже опустила в спешке обычный телеграфный поцелуй.
— Это ты написала маме, что я болен? — сердито спросил Ипатов.
— Зачем? — пожала она плечами.
— Значит, Олег… Я же просил… Ну зачем он? Чувствую я себя нормально. На будущей неделе, врачи говорят, может быть, выпишут.
— Да? Правда? — обрадовалась Машка.
— Ну кто его за язык тянул? Только сорвал маму со съемок! Я понимаю, была бы необходимость. Ну а сейчас какой смысл?
— Не знаю, — снова пожала плечиками Машка и вдруг спохватилась: — Маму повидаем!
— Ну разве только маму повидать…
— Мы с Олегом соскучились по ней, — обиделась за маму Машка.
— Ну да, конечно, — пошел на попятную Ипатов…
Наконец его принял декан филологического факультета, тот самый академик, у которого он когда-то по-наглому попросил прикурить. Те несколько минут, пока шла беседа, Ипатова не покидал страх, что академик его узнает и откажет в переводе на отделение журналистики. Но, как ни дрожал у него голос, отвечать и держаться он старался с достоинством.
Коротко расспросив Ипатова о побудительных причинах перехода, академик как-то жалостливо на него посмотрел и в нижнем уголке заявления тонким синим карандашом написал резолюцию: «Перевести с первого января».
«Спасибо, большое спасибо!» — рассыпался в благодарностях Ипатов.
На это академик ответил с загадочной прямолинейностью:
«Дай бог вам всегда оставаться довольным сим выбором!»
Увы, память не сохранила, когда происходил этот разговор: утром ли, накануне знакомства с Игорем, или на следующий день, перед совместным походом в милицию. Скорее всего, на другой день, потому что за время, оставшееся до поездки на дачу к Игорю, Ипатов накатал еще три международных обзора. Он хорошо помнил, что торопился закончить их, особенно последний, в котором не оставлял камня на камне от пресловутого «плана Маршалла». Показать всем, включая Светлану, что и он не лыком шит, была первой из двух причин, почему он так гнал. Вторая, не менее важная причина состояла в том, что он не хотел являться к будущим своим коллегам-журналистам с пустыми руками. Чего другого, а честолюбия ему в то славное времечко было не занимать. Именно тогда он поделился своими грандиозными планами с мамой, а мама рассказала все папе, а папа, которому, несмотря на революционное прошлое, так и не удалось сделать карьеру, неожиданно горячо одобрил намерение сына стать журналистом-международником. Будучи человеком дела, он, ознакомившись с написанным, молча забрал все шесть обзоров (три новых и три старых) и в течение двух вечеров старательно переписал их на хорошей гознаковской бумаге своим ровным, каллиграфическим дореволюционным почерком выпускника классической гимназии…
Читать дальше