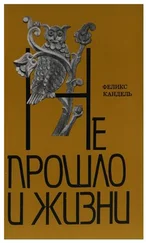– В кого они у вас? – спрашивали с ухмылкой прохожие.
– А в меня, – отвечал Ланя Нетесаный, тяжеловесный и присядистый, с хорошо упрятанной обидой. – Я высокий. В душе я очень высокий. Только ноги у меня короткие.
Порой кочегар свешивался с подножки, руку тянул – прихватить и увезти: девки визжали от волнения и бежали поскорее к реке погадать на жениха. Набирали воды в рот, мчались наперегонки к дому, топоча пятками: которая первой добежит, воды не расплещет, той первой и свадьба. Меньшие захлебывались на бегу, глотали по пути воду, только Фенька-угроба доносила до капельки, распихав соперниц локтями-коленками ради скорого жениха.
Но женихи были не по возрасту.
В один раз Фенька не утерпела, подскочила к паровозу, сдернула дразнилу-кочегара на скорости: чтоб с ней был.
Скандал сделался. Состав останавливали. Рапорт писали. Прощения просили. Кочегар больше не свешивался с подножки, а грозил Феньке кулаком да плевал длинно на сторону угольной слюной.
Фенька плевала в ответ...
К ночи девки затихали, угомонившись, сон сваливал впокат, как щелчком в лоб, и наступало время родителей.
Ланя Нетесаный нехотя садился на приступочку спиной к косяку, лениво перебирал гитарные струны, пел низким, хрипатым голосом из глубины, словно ехал, не торопясь, со степного, ковыльного отдаления, ехал и никак не мог доехать.
Стареешь – будто удаляешься от жизни в ненужные тебе края.
Провожающие видятся смутно, как от слезы в глазу. Звуки доходят глухо, как от ваты в ушах. Запахи трав не унюхать, как при насморке. И на вкус многое уже горчит.
Так что же останется?
Только обтрогать, если дотянешься напоследок.
Попев всласть, от души, Ланя ударял вдруг по струнам, и Арина Нетесаная выходила на середину, всплескивая руками, дробь била босыми пятками. Бурно, отчаянно, как на показ, а Ланя не глядел вроде – ни к чему это, только рвал струны ловкими коричневыми пальцами.
– Вы кто? – спрашивали с подозрением проезжие. – В кого вы у нас?
– А в никого, – отвечал Ланя Нетесаный с плохо упрятанным раздражением. – Нас цыгане с телеги обронили. На ярмарку скакали – подбирать не с руки.
Опять он пел – она слушала, опять она плясала – он не глядел, и так заполночь, каждый почти летний вечер, до рассветных перистых петухов на полнеба.
Немолодые уже, каждому под горку: годы как дети, чего их считать?
Утром у них работа, домашние дела, жизнь повалится на головы – только отгребай, а они поют, они пляшут, у них сил много – не потратили за годы.
Обидно умирать с непотраченными силами...
3
– Ланя, – попросила Арина, когда женихались. – Свози меня, Ланя, в город. Чего тебе?
Он и повез.
Пешком. На попутке. Потом на поезде. Опять на попутке.
В тир сходили, в кино и буфет.
В кино ее перекрыли широкими спинами во много рядов, и достался Арине кусочек заграничной жизни, с верхнего угла – не разгляди-поймешь. Кто-то любил кого-то с музыкой, плясками, с бокальным перезвоном, а кого – не видно.
– Девка, – сказали сзади. – Не стеклянная. Осядь давай.
Она и осела за спины. До конца сеанса.
В тире хозяйничал за прилавком недобрый однорукий солдат в долгополой шинели. Взяла ружье-малопульку, приложилась щекой к случайному месту, выпалила неизвестно куда.
– Деревня, – сказал солдат. – За грош хочешь глаз мне выщелкнуть? Поди вон!
И они пошли в буфет.
Взяли хлеба, винегрет со свеклой, морс из клюквы – запить, по лоснящейся сардельке в непробиваемой кожуре.
Арина оглядела ее с сомнением, ткнула несильно вилкой: сарделька и скакнула с тарелки на стол.
Воротила на место, ткнула опять: та опять скакнула, боком проехалась по клеенке.
Хмыкнули мужики, фыркнула буфетчица, мальчонка хохотнул у двери.
– Дай я, – сказал Ланя и ткнул что есть силы своей вилкой.
Сарделька скакнула на улицу через открытое окно, и они пошагали прочь под общий обидный гогот, не доев винегрета с хлебом, не запив морсом из клюквы.
Больше она никуда не просилась и сарделек в жизни не видела.
Арина уродилась тихой, покорной, стыдливой перед домашними, но по полу ступала хозяйкой, прибираясь без отдыха: Арина-уберуха. Девок в животе вынашивала без счета, день целый топталась у печи и по дому: от хозяина пахло ветром, от хозяйки дымом.
Печь дымила зимой, в бураны, заметало когда по уши. Печь дымила и летом, в туманы, никак не желала кочегариться.
С Ланиных малых доходов забалтывала болтушку, муку с водой, варила, на стол ставила: хлебали – ложки в глазах сверкали.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)