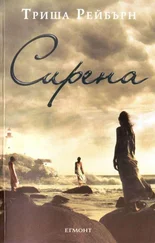Я смелею. Моя ладонь ложится на ее кожу.
Она мягко отстраняет мою руку.
Мне стыдно.
Я не настаиваю. Но мне казалось, что сегодня вечером нам обоим было нужно острее почувствовать в себе жизнь. Я, во всяком случае, хотел попробовать.
Я слышу, как она дышит, ее тело здесь, рядом. Ее запах окутал все: цитрус, металл, бывает иногда такой вкус у крови. Я уже не знаю, что и думать. Не знаю, кто она, не знаю даже, кто я. Чего она от меня хочет, почти нагишом, ничком, предоставив моему взгляду дюны своих ягодиц, едва прикрытые, закутав лицо прядями, напоминающими мне теплое золото волос одной итальянской актрисы, холодной и сумрачной. Она не итальянка, она из Греции, страны православной почти на девяносто процентов. А что, если у них свои традиции? Я вспоминаю молодую женщину, которая регулярно выходит из ее двери, — может быть, она любит только себе подобных? А как же Марчелло? У нее был такой расстроенный вид в тот раз. А дефиле парней? Возможно, я ее не привлекаю. Она хорошо ко мне относится, и только. И этого, быть может, достаточно.
Смартфон не прекращает вибрировать. Новости не радуют. Лежа, с экраном в вытянутой руке, я отвечаю эсэмэсками.
Теплая ладонь ложится на мое лицо. Она смотрит на меня:
— Оставь это.
Я выключаю аппарат, распространяющий смерть. И ухожу в свои мысленные лабиринты.
— Ты не спишь? — Ее голос разрывает тишину. — Ты был бы тем же без твоего вкуса к Античности?
— Вкуса к патине?
Она тихонько смеется. С годами у меня возникло ощущение, что я последний из моей породы. Кто еще припадает к античному источнику, забивает себе голову историями о Тесее и Ахилле, извлекает из них урок для сегодняшнего дня? Истории кайрос, культура Древнего мира. Гуманизм. Мифы. Это проняло меня до глубины души недавно, когда умер Умберто Эко. Кто теперь расскажет нам так страстно об удовольствии от перевода, расшифровки текста, всплывшего из глубокой древности, однако же что-то говорящего нам? О поэзии Пиндара, этом солнце в словах, что дает столько сил? Об энергии и красках, дарованных этой поэзией нам, детям, будущим взрослым? Кто скажет теперь, что «человек есть животное, наделенное логосом» и что этот логос, то есть не только собственно речь, но и его самовыражение перед миром, как раз и отделяет человека от животного? Кому посчастливится узнать от учителя, что самое главное — вылепить в себе способность удивляться, thaumazeïn, ибо это начало мудрости, и развить критический ум, но также и фантазию, дабы войти, на крупе Пегаса, у кормила корабля «Арго» или припав к соскам Волчицы — в широкие врата мифов? Все это ведь помогает жить, не так ли? Открыться себе подобным. Как Улисс после кораблекрушения, увидев Навсикаю (мой любимый отрывок), говорит ей: «Смертная ты иль богиня — колени твои обнимаю!» Видеть в ком-то другом бога, а не только чужака. Я рассказывал это Пас, много лет назад, когда мы в Праяно бродили по узкой улочке в поисках квадратиков керамики, которыми один амальфитанский художник отделал стену, изобразив на них, наивно, в красках, картины из «Одиссеи». Навсикая «белорукая», θάλασσα. Дочь царя, играя на берегу в мяч со своими служанками, увидела выходящего из кустов голого мужчину и, хоть «был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиной», не испугалась его. Она помогла ему и даже, может быть, немножко полюбила. Все это остается, дает иное видение, иную картину, озаряет жизнь, делает ее острее, богаче двойными смыслами, дает возможности действовать в распадающемся мире. Вот я и доверился. Она перевернулась, гладкая, как галька.
— Ты можешь это передать.
— Это больше никому не интересно.
— Твоему сыну?
— Моему сыну… Может быть.
— Значит, ты не последний. Он будет жить за тебя. Он продолжит. На свой лад, но продолжит.
Она сказала это ласково. Как будто все знала. Познакомлю ли я их когда-нибудь?
Она хочет знать, откуда он взялся во мне, этот вкус. Хочет, чтобы я рассказал. Как на нормандском побережье учительница однажды взяла меня за руку и повела к этому языку, алфавит которого меня очаровал. Мне тринадцать лет. Нас шесть или семь девочек и мальчиков, не больше. Урок быстро начинает смахивать на тайную сходку, потому что проходит в субботу, перед самым обедом, когда коллеж почти пуст. Она ведет нас в святая святых, в учительскую, где угощает горячим шоколадом из автомата. Для нас это вкус избранности. Потом мы возвращаемся в класс, к школьному учебнику, обложку которого я до сих пор не забыл: широко раскинувшееся Эгейское море, на рассвете или в сумерках, похожее под солнечными лучами на полированное серебряное блюдо. Справа скалистый мыс, на котором высятся колонны. В море плавают греческие буквы, едва пропечатанные, почти невидные, перемешанные с пеной. Эти буквы образуют слово θάλασσα: море. Взяв эту книгу в руки, посмотрев на нее, уже погружаешься в мир жидкий и теплый, соленый и вкусный, мир, где ласки обещают быть нежными, но бодрящими, напитывающими. И этот алфавит, так непохожий на наш, был для меня тогда волшебным кораблем, на котором я доберусь до сфер чистейшего блаженства, этой фантазии Средиземноморья, исполненной чувственности…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Карл Вагнер - Сирена [Глубинное течение]](/books/57763/karl-vagner-sirena-glubinnoe-techenie-thumb.webp)