Вышла Надежда Васильевна с Маней. Они были в одинаковых крепдешиновых платьях, в тапочках на лосевой подошве. Такие тапочки можно было приобрести или по блату, или простояв несколько часов в огромной очереди. Бабушка собиралась подарить мне на день рождения тапочки на лосевой подошве, но никак не могла достать их.
Посмотрев из-под руки на солнце, Надежда Васильевна что-то сказала. Маня возразила, и они неторопливо направились к воротам. Позабыв обо всем на свете, я уставился на Маню — ужасно хотелось, чтобы она обернулась.
— Чего пялишься? — вдруг услышал я голос Анны Федоровны и обнаружил, что Ленька тоже смотрит на Маню.
На душе стало муторно.
— Вырядились, — проворчала Анна Федоровна, провожая взглядом Надежду Васильевну и Маню. — Только и делают, что по магазинам шастают. Живут, как сыр в масле катается. — Резко повернувшись к сыну, спросила: — Сам видел, как отец в проходную вошел?
Ленькино лицо стало бледным-бледным.
— Ага.
— Ты не агакай, а внятно скажи: на «шпульке» он или в забегаловке?
— На «шпульке», — соврал Ленька и потупился.
Поправляя на веревке ветхую простыню, Анна Федоровна вздохнула:
— С утра сердце щемит, а отчего — не пойму.
Неприязнь к Леньке была такой сильной, что я чуть не съябедничал. Очень обрадовался, когда бабушка позвала меня обедать.
— Чего такой невеселый? — спросила она, когда я сел за стол.
— Так.
Бабушка потрогала мой лоб:
— Перегрелся.
На обед была окрошка — квас бабушка приготовляла сама. И, наверное, потому что день был жаркий, а окрошка холодной и восхитительно вкусной, я на этот раз не привередничал.
После обеда бабушка прилегла отдохнуть. Я улизнул во двор — хотелось снова увидеть Маню и, если удастся, поговорить. Взглянул на холодно поблескивавшие стекла в окнах их комнаты и понял: еще не вернулись. Ленька помогал матери кормить и укладывать спать братьев — было слышно их хныканье, лепет.
За воротами гулять бабушка не разрешала — на нашей улице была трамвайная линия, довольно часто проносились, подпрыгивая по булыжной мостовой, автомобили. Но я все-таки вышел. Остановившись вблизи ворот, устремил взгляд в ту сторону, откуда, по моим предположениям, должна была появиться Маня.
Сильно припекало. Асфальт на тротуаре стал вязким. Воробьи с раскрытыми клювами и растопыренными перьями суетились, отпихивая друг друга, возле небольшой лужицы, образовавшейся под краном, на который дворник надевал утром и вечером поливочный шланг. Может быть, в какой-нибудь другой день я с интересом глазел бы на воробьиную возню, теперь же было не до этого. Солнце пробивало кроны, тень была жиденькая, улица казалась вымершей: трамваи и автомобили давно не появлялись, на одиноких прохожих я не обращал внимания. Грудь давила тоска, и что-то предчувствовало сердце. Через несколько минут ноги сами понесли меня в мое убежище.
За сараями было как в парной бане. От раскаленного железа растекался горячий воздух; лопухи, крапива и другие растения поникли, навозные мухи, издали похожие на синеватые точечки, блаженствовали, поправляя лапками блестящие крылышки; на нагретые доски снова выползли вспугнутые моим появлением ящерицы и замерли, полузакрыв дымчатой пленкой выпукло-круглые, как булавочные головки, глаза. На Конном дворе лениво переругивались извозчики. Найдя кусок доски, с одной стороны совершенно сухой, с другой испачканный грязью, с притаившимися мокрицами, я устроил что-то вроде скамейки и сел в тупике, где узкий-узкий проход преграждала прохудившаяся панцирная сетка, обломки досок, битые кирпичи и истлевшее тряпье. Солнце сюда не проникало. Было тесно: одно плечо ощущало стену сарая, другое то и дело касалось каменной ограды. Большой серый паук перебежал в самый дальний угол затейливо сплетенной паутины — подкарауливал мух.
Смешно говорить о любви в тринадцать лет. Но что-то, несомненно, было. Помню, как билось мое сердце и возникала перед глазами Маня — нарядная, с насмешливым блеском в глазах. Я беззвучно разговаривал с ней. Забегая мыслями в будущее, представлял себя в фуражке с «крабом», в белом кителе, с кортиком на боку, а рядом уже взрослую Маню, ослепительно красивую и нежную. Тогда я даже не предполагал, что мои устремления никогда не сбудутся: мечта о флоте вначале отодвинется, потом и вовсе исчезнет, а Маня… Вон она идет по двору мимо моих окон с внуком. Это не мой внук. И двор другой. Лет через пятнадцать после войны всех нас переселили в один и тот же микрорайон, расположенный на окраине Москвы. Окраиной это место было недолго. Теперь поблизости от нас метро, по улице ходят троллейбусы и автобусы. От нашего дома до центра всего полчаса езды. Погрузневшая, с подкрашенными, чтобы скрыть седину, волосами, эта Маня, а правильней Мария Парамоновна Петрова — да, да, по-прежнему Петрова! — ничем не напоминает мне ту девочку, в которую по-мальчишески глупо и безнадежно был влюблен я. Как много воды утекло с той поры, как много было в моей жизни радости и горя! Однако время не стерло в памяти наш двор и его обитателей. Некоторые из них еще живы, как я и Мария Парамоновна, других уже нет.
Читать дальше
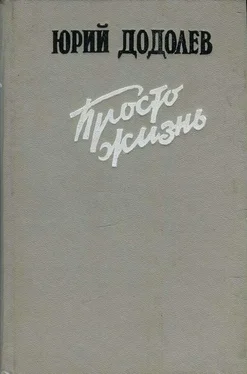




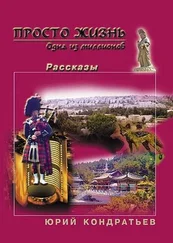



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


