— Врачи говорят: контузия на голову повлияла. Как только сяду читать или писать, в голове стук возникает и буковки перед глазами разбегаются.
Бабушка принималась сочувствовать. Оглоблин не любил этого; насупившись, перебивал:
— Верно говорят, что ты до революции богатой была?
— Покойный муж имел капиталец, но перед смертью все промотал.
— Гулял?
Бабушка не любила вспоминать свою прежнюю жизнь, переводила разговор на другое. Родион Трифонович продолжал допытываться:
— За какой список голосовала?
— За пятый, разумеется.
— И пожертвования делала?
— Несколько раз — да.
Кашлянув в кулак, Родион Трифонович удовлетворенно кивал.
— Это хорошо, правильно. Сознательная интеллигенция всегда с народом должна быть. Раньше ты в просторной квартире жила, теперь, видишь, все подравнялись. — Он смолкал, напряженно морщил лоб. — Ты, Прохоровна, не обессудь. Придет время — снова в просторной квартире станешь жить, как и все остальное народонаселение.
Бабушка угощала Оглоблина чаем. Осторожно держа хрупкую фарфоровую чашку, он делал первый глоток.
— Сахар берите. — Бабушка подвигала к нему сахарницу с маленькими серебряными щипчиками.
Родион Трифонович ставил чашку на стол, обиженно бормотал:
— Так не годится, Прохоровна. Я тебе по-простецки, а ты мне — «берите».
— Привычка, — объяснила бабушка.
— Надо отвыкать от таких привычек! — торжественно изрекал Оглоблин и, пренебрежительно посмотрев на серебряные щипчики, брал сахар рукой — чай он пил только вприкуску.
Я с гордостью сообщил, что ни бабушка, ни мать даже не шлепают меня.
— Зря, — сказал Родион Трифонович.
— Почему?
— Пацанов изредка пороть надо, чтоб не разбаловались.
Я перевел взгляд на Леньку.
— Он совсем другое дело, — сказал Оглоблин. — Его мать по своей дурости рукам волю дает, все, паразитка, по голове норовит. Искалечит парня, потом сама же локти кусать будет.
— Это ты верно сказал. — Потушив окурок, Валентин Гаврилович щелчком отбросил его.
Не обращая внимания на меня и Леньку, они стали беседовать. Выяснилось, что Родион Трифонович сегодня первый день в отпуске, еще не решил, как проведет его: то ли на курорт поедет, то ли в деревню к приятелю, с которым громил беляков.
— Замаялся я на работе, — пожаловался Оглоблин. — Каждый день бумажки подписываю, а что в них — не успеваю прочитать. Иной раз подмахну, а потом сердцем тревожусь: вдруг там что-нибудь не то написано… Не рассказывал тебе, что в тот день было, когда я первый раз в председательское кресло сел?
— Нет.
Родион Трифонович крякнул.
— После того как представили меня коллективу, отправился я в свой кабинет. Сейф, шкаф, большой стол с телефоном и чернильным прибором, отточенные карандаши и целых три ручки, пепельница, на окне полотняная штора болтается. Я еще подумал: мать честная, сколько портянок или рубах можно пошить! Кресло удобное. Сижу себе покуриваю. Вдруг секретарша входит — молоденькая, смазливенькая, шустрая такая, с краской на губах. Продает мне папку с завязочками и обходительно так говорит: «На этих документах, Родион Трифонович, резолюцию надо наложить». Я вслух ничего не сказал, но подумал: «Раз надо, наложим». Как только она упорхнула, обмакнул перо в чернильницу и написал на каждой бумаге: «Резолюция наложена. Оглоблин». Все честь по чести сделал, даже точки поставил. Умаялся, словно весь день мешки кидал. Позвал секретаршу, отдал ей папку. И вдруг слышу — хохочет, прямо стены трясутся. Грешным делом подумал: щекочет ее в рабочее время какой-нибудь хлыщ. Нахмурился, отворил дверь. Смотрю: глядит она в раскрытую папку и слезы вытирает. Все сбежались кто смог. «Чего, спрашиваю, ржешь?» Она пальцем тычет в папку и ни словечка сказать не может — хохочет и хохочет. Бухгалтерша над папкой наклонилась и тоже прыснула. Потом и другие сотрудники ухмыляться стали. Вот ведь какая буза получилась.
— Да-а, — сочувственно пробормотал Валентин Гаврилович. — Секретаршу-то, наверное, прогнал?
— Зачем? — Родион Трифонович искренне удивился. — С работой она справляется и человек неплохой, хотя и с ветерком в голове.
Валентин Гаврилович одобрительно кивнул и сказал:
— Без грамоты трудновато руководить даже маленькой артелью.
— Трудно, трудно, — подтвердил Родион Трифонович. — Хотел в сторожа уйти или еще куда-нибудь, но в райкоме сказали: «Нельзя! Заслуженный человек — и вдруг сторож». Обещали подобрать полегче работенку, но до сих пор, видать, не нашли. У меня от этих бумажек ломота в глазах и мозги набекрень. На вороном жеребце с шашкой в руке легче было. Если бы не это, — он покосился на пустой рукав, — то сейчас я на Халхин-Голе полк в бой водил бы.
Читать дальше
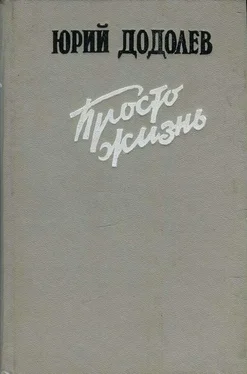




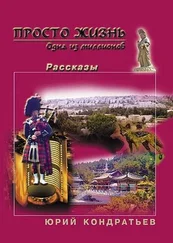



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


