Ленькина мать возмущала не только мою бабушку — всех, однако никто даже не пытался поговорить с ней. Но справедливость восторжествовала: в один прекрасный весенний день — это было всего месяц назад — за Леньку заступился однорукий орденоносец Родион Трифонович Оглоблин, герой гражданской войны, живший в одной квартире с Петровыми. Я чуть не крикнул «ура», когда он, подойдя к разгневанной, только что отвесившей сыну оплеуху Анне Федоровне, властно сказал:
— Больше не распускай руки!
Анна Федоровна опешила. Потом, уперев руки в боки, нахально спросила:
— Ты кто такой, чтобы указы мне давать?
— Оглоблин я, — спокойно ответил Родион Трифонович и пощупал заправленный под ремень пустой рукав суконной гимнастерки.
— Мне твое геройство — тьфу! — с вызовом сказала Анна Федоровна. — Ленька моя плоть: что хочу, то и делаю с ним.
Родион Трифонович нахмурился.
— Я за светлую будущность твоего сынка с беляками бился, свою кровь пролил. А ты, сучья твоя душа, вон что вытворяешь. Терпел я, терпел, а теперь — хватит. Если узнаю, что ты его еще раз вдарила, на себя пеняй. Не посмотрю, что ты мужнина жена: задеру подол и отхлестаю.
— Не совладаешь, — Анна Федоровна кинула взгляд на пустой рукав.
Родион Трифонович положил руку ей на плечо, и она — это все видели — присела.
До того раза я не подозревал, что Оглоблин такой силач. Был он среднего роста, обыкновенного телосложения, на лице с торчащими от небрежного бритья волосинками выделялся только шрам величиной с указательный палец. Был Родион Трифонович одиноким: ни жены, ни детей. О себе он ничего не рассказывал, но было известно, что во время гражданской войны Оглоблин командовал эскадроном, был ранен и тяжело контужен, много лет провел в госпиталях и больницах. Орден Красного Знамени на его груди наглядно подтверждал: Родион Трифонович порубал немало беляков и прочих недругов советской власти. Никакого образования он не имел, даже в церковноприходскую школу не ходил, читал по складам, а писал еще хуже: старательно и долго выводил свою фамилию на пенсионном переводе, так долго, что почтальон начинал нетерпеливо переступать с ноги на ногу и гмыкать.
— Поставь крест, и дело с концом, — не выдерживал почтальон.
— Нельзя, — возражал Оглоблин и, покрывшись от усердия капельками пота, продолжал выводить буквы.
По этой причине — из-за неграмотности — он занимал не ту должность, которую мог бы занимать: был всего-навсего председателем какой-то артели, где что-то шили или вязали, а может, штамповали. Оглоблин был на нашем дворе единственным начальником, пусть маленьким, но все же начальником. Поэтому в глазах большинства жителей нашего двора его общественная значимость была выше значимости двух, всего лишь двух, людей с высшим образованием: моей матери, врача, и инженера Валентина Гавриловича Никольского — язвенника с худым лицом, сединой в волосах, такого же одинокого, как и Родион Трифонович.
Я никогда не видел Оглоблина пьяным, но Ленька рассказал по секрету, что пьет Родион Трифонович как лошадь: поставил перед собой литровую бутыль и тарелку с хлебом и дул, дул, пока не вылакал все.
— А потом что было? — спросил я — хотел услышать что-нибудь жуткое.
— Ничего не было. Посидел, побродил по комнате, сбивая стулья, и спать лег. — Ленька помолчал и добавил: — А мой батька теперь от одной стопки хмелеет. Я люблю, когда он пьяный: смеется и песни поет.
Я был другого мнения. Николай Иванович в пьяном виде походил на шута. В его шуточках-прибауточках, выкриках, шаткой походке было что-то унизительное. Это ощущение возрастало, когда появлялась разгневанная Анна Федоровна и начинала, награждая мужа пинками и тырчками, громогласно бранить его. Несмотря на свое состояние, Николай Иванович ловко увертывался от пинков и тырчков, даже балагурил, потом вдруг сникал, покорно позволял увести себя. Что происходило дальше, рассказывали соседи Сорокиных. Но, увидев на следующий день исцарапанное лицо Николая Ивановича, кровоподтек под глазом, можно было догадаться обо всем и без рассказов.
— Шибко попадает отцу, — доверительно сообщил мне Ленька в тот день, когда Анна Федоровна впервые отрядила его сопровождать Николая Ивановича до проходной.
3
Пока я обменивался с Ленькой взглядами — мы умели спрашивать друг друга глазами, как дела и все прочее, самое важное, — пока отвечал на вопросы Николая Ивановича, Маня исчезла, и я, ошалело уставившись на то место, где сидела она, подумал, что дочь Надежды Васильевны и Парамона Парамоновича словно бы слетела с бревен, как слетает с ветки птица, на которую только что смотрел, а отвернулся на мгновение — лишь ветка покачивается.
Читать дальше
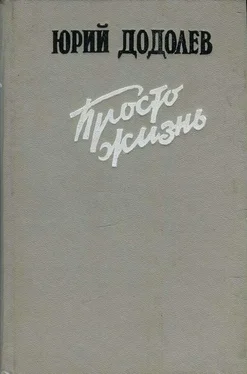




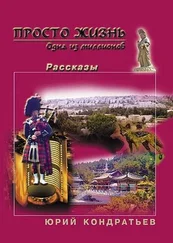



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


