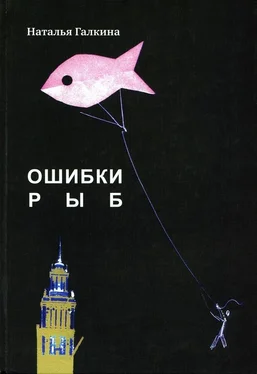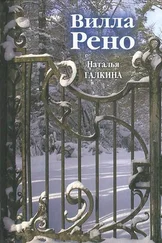— И зовут его не Марк Туллий, — сказала Ведьма.
— Цицерона зовут не Марк Туллий? Ты хочешь сказать, у него есть третье имя?
— Он шутил, когда говорил с тобой. У него и этих двух нет. Его иначе зовут.
— Как?
Она не ответила, ее отвлекло варево на плите.
— Скажи, Ведьма, он хотел меня обидеть? Он назвался своим никнеймом?
— Он никогда никого не обижает. У него нет ни никнейма, ни псевдонима, но иногда он шутит. Как тебе объяснить? У него юмор такой.
— У него старомодный юмор? — предположил Гауди.
— Возможно, — отвечала она рассеянно.
Скрипнула дверь, на потолке возник прямоугольный портрет солнечного света.
— Ведьма, — спросил Гауди, — а сколько тебе лет?
— Пятьдесят, — отвечала она. — А тебе?
— Двадцать три.
— Сильвия, — спросил оборванец, — почему он зовет тебя ведьмой?
— Так уж вышло, — сказала она весело, — считай, что я так представилась.
Он медленно поправлялся, постепенно знакомясь с неказистым жилищем, в которое его занесла нелегкая. Лачуга, сделанная из старых ящиков, подобранных по случаю досок, реек и жердей, штампованных листов жести, разноцветного пластика, с крошечными оконными проемами, где вместо стеклопакетов вставлены были проржавевшие и покрытые ракушками иллюминаторы отслуживших судов, безглазых завсегдатаев дна морского, стояла на берегу, придерживаясь линии прибрежных кряжистых деревьев. За лачугой дремал крошечный сад с миниатюрным огородом, землю и ил Сильвия с оборванцем носили вручную с дальних болот. На кольях у перевернутой лодки сушились сети с поплавками, круглыми зелеными стеклянными шарами. То был многодетальный непостижимый мир без электричества, электроники, видео, новостей, с сараем, набитым древними книгами и пахнущими смолою дровами. Книги тоже пахли смолой. Сильвия топила печь и в редких случаях зажигала коптящую лампу. Вне сверкающих интерьеров, залитых светом разного оттенка, вне привычных звуков Гауди казалось, что он умер, а потом воскрес на чужой планете, в диких краях полупомешанных аборигенов, которым не втолковать, что такое самолет, мобиль, компьютер, ролики, наконец. Мир без дизайна и сервиса поразил его. Через некоторое время оба мира, и прошлый, и нынешний, стали приобретать в равной мере ирреальные черты и даже ими обмениваться. Какой-то перекос происходил в сознании его, он даже подумал, не следствие ли это отравления, и пожаловался оборванцу, которого, выявив, кто были доисторические Цезарь и Цицерон, звал он теперь настоящим его именем — Аксель. Но Аксель отвечал, что у Гауди, по его мнению, как раз происходит прояснение рассудка, всегда чреватое рядом неудобств; что до обоих миров, взаимно исключающих друг друга, то, во-первых, вопрос большой, который эфемернее, а во-вторых, оба они — следствия и причины друг друга и даже дополняют один другой в некое, абсурдное, разумеется, единое целое.
Гауди был еще слаб, чтобы помогать по хозяйству по-настоящему, и Аксель начал его учить читать старинные бумажные книги. Он с трудом научился переворачивать страницы. Вместо экрана видео образы героев и картины бытия стали возникать в воображении, и это оказалось так утомительно, что поначалу он засыпал мертвым сном, прочитав три страницы.
Небесно-голубой комби Цезаря Гауди выцвел и кое-где был заплатан рукою Сильвии, великолепная обувь стопталась и сносилась. У него отросли волосы, с удивлением заметил он, что концы их завиваются. Вместо поджарого, спортивного, коротко остриженного фабермена из видавшего виды музейного зеркала Сильвии глядел на него отощавший кудрявый бродяга, герой вышедшего из моды ремейка старого блокбастера.
Оказываться поутру перед двумя бадьями с холодной и горячей водой на крытом дворике за лачугой долгое время было ему тоскливо и неуютно, он вспоминал свою белую, перламутрового блеска ванну, солярии, зелено-голубой бассейн, как не вспоминал любовницу; но постепенно он притерпелся, его стали веселить солнечные пятна, пляшущие на позеленевших стенках деревянной бадьи, и легкое шипение, дыхание бадьи керамической. Он увидел, как расцветают цветы, прорастает картофель, свел знакомство с живущей под крыльцом жабой, испугался ужа, увидел улиток. Ночами они сиживали на крыльце, Аксель показывал ему звезды, планеты, созвездия, называя их поименно, рассказывая древние легенды, связанные с их именами. Или пересказывал ему книги, которых в сарае не было.
Гауди удивляло, что Аксель знал языков больше, чем привычный электронный транслейтор, он постоянно сбивался, считая, сколько их и какие именно: немецкий, французский, итальянский, датский, шведский, латынь, венгерский, арабский, греческий, русский, польский; а сербский? а санскрит? а персидский? или фарси? китайский, как сам он говаривал, знал он слабо, и ведомы ему были не более тысячи иероглифов. Лицо его напоминало портреты кисти древнего художника Тициана, книгу о котором показывала Гауди Сильвия. Постель из досок, покрытых соломой и рогожею, частенько скучала без Акселя ночами, спал он мало, читал или писал по ночам. Бумагу Аксель берег для Сильвии, для ее акварелей, записи свои делал мелом на грифельной доске, потом стирал их, заменял новыми. Никто никогда не смог бы узнать, что писал и над чем думал ученый обитатель лачуги. Должно быть, так время стирало все, о чем не стоит вспоминать, с прибрежного песка памяти. Сам Аксель не придавал значения утерянным мыслям, утверждая, что даже и просто высказанное вслух успевает сообщить миру свою энергию, а дальнейшее несущественно. В частности, неважно, кто был творцом идеи — аноним или имярек. С легкостью редкой птицы, возможно, Феникса, произносил он фразы и стихи на картавящих, шепелявящих, присвистывающих, лепечущих, отрывистых и певучих вавилонских наречиях земных. Особенно завораживали Гауди молитвы.
Читать дальше