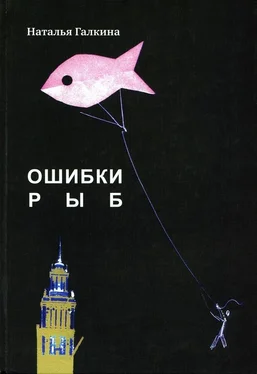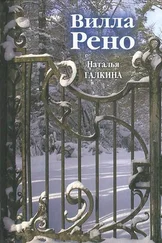В толпе кричали:
— Сделайте что-нибудь! Вызовите спасателей! Вызовите патруль! Чей ребенок? Безобразие! Как он туда попал? Помогите!
Экскурсовод усилил звук в своей говорильне.
— Спокойно, спокойно, — сказал он противного тембра профессиональным голосом. — Это ничей ребенок. Это вообще не ребенок, граждане. Это мути. Сегодня оно в виде мальчика. Вчера девочка была. А на той неделе курочка с «джип». Кому повезет, зафиксирует момент метаморфозирования. Внимание! Шестнадцать тридцать!
— Пора, — сказал Толя. — Я тебя провожу до раздевалки.
В раздевалке царили толкотня и бестолковщина. У меня опять заело молнию на комбинезоне. Я и к молниям этим никак не привыкну. Я даже не липучки — пуговицы люблю.
Садиковская хорошенькая четверговая нянька уже ждала меня у сто двадцать седьмого бокса с одетым Сережечкой. Сережечка снова нацепил чужую шапочку. Шубка была, по счастью, наша. Я спросила:
— Как у вас прошел четверг?
— О’кей, — отвечала нянька. — Ваш Сержик супер. Только в компьютерную игру второго уровня плохо въезжает.
Мы вошли в лифт и сели на скамеечку. Кроме нас, в лифте была толстенная тетка с венским стулом-гнушкой доисторической эпохи, на коем она и восседала. Двери захлопнулись, мы начали спускаться. Сережечка тут же стал засыпать, прижался ко мне, привалился, посапывая. Мелькание из тьмы за остекленной половиной лифта напоминало мне городское метро прежней эры. Эры до торосов. Дались мне эти торосы. Тетка говорила что-то, не закрывая рта, а я кивала, совершенно отключившись, но то ли я кивала впопад, то ли говорила она не мне, а мировому пространству, — кивки мои вполне ее устраивали.
У меня от спуска во тьме всегда начинался приступ тоски (тоже ведь классика: неопределенная тоска сердечника), как на Неве, поэтому я всегда радовалась свету, моменту, в который лифт выскакивал на поверхность и начинал подъем, напоминавший о старом фуникулере, подвесной дорогой в горы для беспечных горнолыжников.
Мы и в самом деле поднимались в горы, где теперь жили, как живут все. Я не любила четверг, потому что Сережечкин садик по четвергам устраивал экскурсии в город вместо того, чтобы спокойно пребывать в горах, как в остальную шестидневку, и мне приходилось возвращаться с ребенком. Перескок из нежилого города в жилой дом в горах, прыжок из прошлой жизни в ненатуральную настоящую давался мне легче в одиночестве. Присутствие всякого свидетеля делало перемену еще невыносимее, особенно присутствие ребенка.
Но мы поднимались, и постепенно красота гор, к которой я точно никогда не привыкну, начинала завораживать и настраивать на свой лад. Менялся горизонт, менялись точки схода вместе с точкой зрения, ущелья расходились, уходили из-под ног леса и реки, открывались альпийские луга, новые цепи, скалы и вершины выглядывали из-за уже увиденных. И вид облаков над горами, примирявший меня с многим, заставил меня постепенно отвлечься и от торосов, и от бегемота.
Перед тем как мы с Толей ушли, бегемоту удалось-таки скормить одну лягушку, оранжевую. Он съел ее сам, быстро и жадно. Слуги возликовали, заметались, тут же помчались на промысел за оранжевыми лягушками и стали потчевать ими ластоногих, оставив дегустатора-бегемотика в покое.
Я нащупала в сумке уголок архивной папки: не забыла, не оставила в раздевалке, теперь бы в лифте сумку не оставить.
На склонах уже мелькали дома, палатки, кемпинги, виллы, поселки. Коля, должно быть, ждал нас дома. И старший тоже. «Лучше такой дом, — подумала я, как думала, уговаривая себя, каждый раз, — чем никакого».
Сереженька проснулся.
— Мама, скоро? — спросил он.
— Скоро, — ответила я. — Скоро приедем. Вот уже французов проехали.
Тетка спала, завернувшись в шаль. Венский стул скрипел. И лифт скрипел. И сами мы еще скрипели.
Это было лето, когда на придорожных проводах появились зеленые птицы. Лето спутавших широту волнистых попугаев, зеленых тропических пташек. Позже Леди Бадминтон вычитала в орнитологическом справочнике, что это были за птицы на самом деле. Но не название, а цвет их удивлял нас и то, что ни до, ни позже мы их в глаза не видели.
Сирень в то лето цвела отчаянно. Каждая гроздь величиной с котенка, пяти- и шестилепестковые соцветия, сплошное счастье. Дивясь изумрудным пичужкам, мы утопали в сирени, угорали от ее ацетиленового аромата.
Маленькая Никак пасла кроликов в палисаднике. Важное трехлетнее (да ей тогда, кажется, и трех не было) создание, на вопрос: «Как тебя зовут?» — она отвечала: «Никак».
Читать дальше