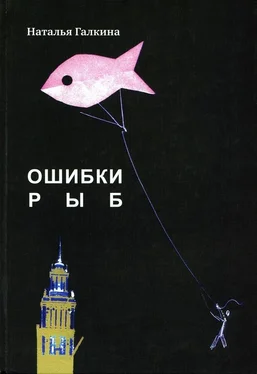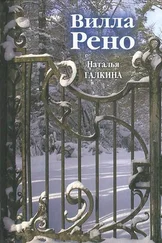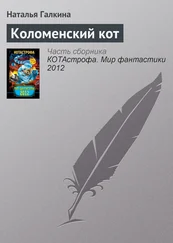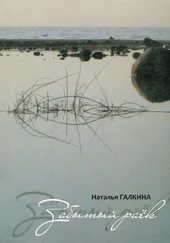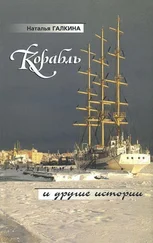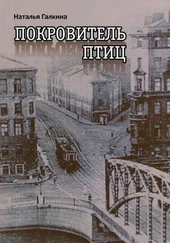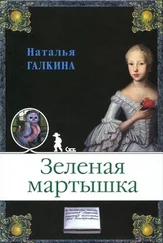Настиг нас яблоневый цвет, розовый, белый, взволновавший нас, аки пчел, полный солнца. Нам не надо было ставить кассет с любимой им музыкой, зажигать свечи в его квартире, смотреть его картины, используя камертоны как сигналы настройки на его образ; мы пребывали в туманном облаке его сенсорики, в бескостном теле жанра одиночной жизни, и из этого марева, из этого накала впечатлений и полей он должен был возникнуть у нас на глазах в качестве реконструкта. Как всегда, мы были одно и помогали друг другу, войдя, судя по всему, в полный резонанс.
Яблони цвели в воображении нашем победно, мучительно, отчаянно.
Огромный сад под голубым выцветшим небом.
Ведомые невесть куда, подчиненные некоему магниту медиумы, мы вышли на улицу и двинулись мимо домов к бульвару по одному из его излюбленных маршрутов, угадываемому и узнаваемому нами легко.
Удивительно ярок и отчетлив был пейзаж, хорошо видны детали, предметы на подоконниках окрестных окон, маскароны и кариатиды фасадов, решетки. Лица людей утратили отчужденность, напоминали портреты разных эпох, мир был открыт и откровенен.
Потом… Наша телесистема воспроизвела позже всю сцену, мы неоднократно видели всё на мониторе, да и без монитора помнили хорошо.
Потом у воды в расступившемся к случаю воздухе, пустынном воздухе уединенного квартала с набережной пропыленного ртутного, обсаженного тополями канала, у самой воды, в разорванном сумрачном бытии сгустился из ничего в нечто или ничто силуэт фигуры В., которого мы преследовали, догнали, создали заново, реконструировали, воплотили, возродили. Он стоял к нам спиной, мы видели его упрямую спину, мы узнавали разворот плеч и затылок, хотя фотографий с затылка нам не попадалось, мы узнавали его по звону в ушах, по немеющим кончикам пальцев, по магнетическому трепету, предшествовавшему всякому воплощению, по усталости, таящейся в грозовом усилии нашем, мы узнавали его по переменившемуся оттенку воды в канале, который он столько раз и так точно изображал, по отчужденному ореолу одиночества, по легкости и изяществу, с которыми прервал он собственную игру в «замри!», с которыми вышел он из небытия, разорвав круг магии, и, не оборачиваясь, пошел прочь. Поскольку с нами прежде ничего подобного не происходило, дальнейшее представляется нам в размыве реальности, но то и был размыв, раствор или створ бытия и небытия, сна и яви. Он прокладывал себе путь, где и как хотел, рассекая дома, проходя через несуществующие ходы коридоров наподобие червя в яблоке, разлагая пространственно-временную канву; мы пытались следовать за ним, хотя это было не в наших силах; мы не ведали, куда он направляется, в наш ли мир, куда мы вызвали его, в другие ли миры; но нас еще вел его стремительно удаляющийся силуэт, и мы знали только то, что он ушел, уйдет, уходит и мы никогда не увидим его лица.
Не могу объяснить, почему именно эти торосы на Неве приводили меня в такую печаль. Уж из-за них-то не стоило убиваться. Как в старину говаривали: снявши голову, по волосам не плачут.
Некоторые пещерки в торосах покрыты были прозрачными зеленовато-голубыми или зеленовато-серыми иглами, как жеоды — кристаллами. Сегодня солнце светило изо всех сил, все стильбы и люмены — наши, густо-голубое ослепительное небо, под таким небом торосы еще белее, глыбы погеометричней напоминают немилосердно увеличенные кубики рафинада, поставленные на уголок уголком вверх. Густые тени. Дыхание холода. Веяло холодом от белой от сухого льда Невы. А вообще-то воздух был тропически теплый, еще немного — и было бы душно, хоть в летнем платье ходи, если бы кому-нибудь могло взбрести в голову в наше-то время носить легкое платье.
Я стояла на узкой улочке, перпендикулярной набережной, смотрела на торосы — ах, красотища, глаз не отвести, а тоска какая! — и ждала Толю. Он запаздывал. Как все бывшие горожане, он вечно опаздывал. И я всегда и всюду опаздывала тут. Сказывалась старая привычка к транспорту, устойчивый рефлекс горожанина рассчитывать путь по мерке, по сетке былого автобусного маршрута, отмеряя расстояние остановками. Психология сельского жителя — психология пешехода. Да и что значит «две остановки»? то ли дело: «от холма до ручья». Или «от мечети до моста». Мы никогда не переучимся. Вот наши младшие братья и сестры, наши дети — те уже другие. А мы помрем, не привыкнув.
Я стояла на узкой улочке и глядела на тени от домов. Какие все-таки теперь резкие тени. И ослепительная видимость.
Читать дальше