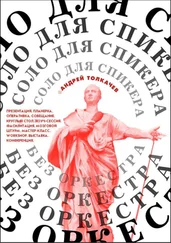— О Йоске ничего не слышно? — обронила она в тишину. — Не было ни письма, ни открытки?
— Как раз теперь тебе понадобилось о нем вспомнить?
— Понадобилось, Вацлав. Что с тобой тогда было, почему ты не мог с ним помириться?
Он привстал, сдвинул подушки к деревянному изголовью, будто решил теперь сидеть, а не лежать, и пробурчал:
— Все равно не поймешь меня, Квета.
— А я попытаюсь.
— Со стороны покажется все это глупым и смешным, но для того, кого это коснется, это не смешно.
— Я всегда думала, что ты не мог простить ему ухода от нас.
— Сначала-то и я так думал. Но не это было главное. За этим крылось кое-что еще, о чем мне трудно говорить.
— И все-таки скажи.
— Я просто не мог свыкнуться с мыслью, что я потерял Йоску, а вместе с ним навсегда потерял ту иллюзию молодости, которой я возле него жил. Моей молодости, понимаешь? Ведь около него я был второй раз молодым. Помнишь, как мы ходили с ним на рыбалку. Он был совсем малыш, стоял возле меня и весь дрожал от нетерпения — когда я наконец позволю ему кинуть леску? Однажды я дал ему подержать удилище, а потом купил игрушечную удочку и, вместо того чтобы следить за своей леской и наживкой, смотрел все утро, как он бегает по берегу, выкапывает дождевых червей, насаживает хлебный мякиш на крючок, а один раз даже поймал плотичку и закричал от радости, когда ее вытаскивал…
Она молчала, чувствуя, как что-то подступает к горлу и теснит в груди.
— Помню, мы сделали тряпичный мяч и гоняли его по площадке.
— А по воскресеньям ходили в походы, пока я стирала…
— У Давле мы взобрались на откос и смотрели оттуда, как разлилась река…
— Но он не виноват, что вырос. Не мог он вечно оставаться десятилетним или пятнадцатилетним.
Нечто подобное испытала и она. И ей знакомо было это чувство. Однажды, когда сын одевался перед зеркалом, чтобы идти на танцы, она вдруг увидела перед собой другого Йоску, он повязал галстук-бабочку и словно бы подвел этим черту под своим детством. А несколько лет спустя и этот Йоска стал уже другим, принадлежал теперь не ей, а кому-то неведомому, к которому ходил по вечерам, — чужой непонятной женщине, которую она не знала и о которой он никогда не говорил, хотя она об этом несколько раз робко и осторожно спрашивала. Но она тогда сказала себе: в жизни есть такое, с чем надо уметь расставаться, как бы трудно и тягостно это ни было. Их жизнь втроем как что-то само собой разумеющееся текла довольно долго, теперь им с Вацлавом, очевидно, следует понять, что так не будет продолжаться вечно, Йоска имеет право поступать, как считает нужным он, а не они. Так уж устроен мир: от самого рождения беспрестанно приходится с чем-то прощаться или что-то терять, и чем раньше поймешь это, тем будет лучше. И она поняла это раньше, чем Вацлав.
— Он все равно когда-то должен был оставить нас, — прервала она молчание.
— Теперь и мне это ясно, — словно подумал вслух Вацлав. — Ну а тебе разве не жаль было расстаться с Йоской?
— Тебе не с Йоской жаль было расстаться, а с какой-то дурацкой иллюзией…
— Дурацкой? — насупился он. — Далеко не дурацкой. Пока эта иллюзия была со мной, я был… счастливый человек.
Он сбросил одеяло, встал и, подойдя к окну, немного постоял так, глядя в ночь. Потом задернул занавески, словно хотел, чтоб в комнате было еще темней, и, вернувшись к кровати, тяжело привалился к деревянному изголовью.
— Тебе не кажется, Квета, что мы состарились и сами не заметили как?
— А ты не думай об этом, — сказала она. — Помнишь, как мы познакомились?
— Помню.
— В самом конце войны, в апреле. Ты патрулировал мост…
— Со старым Грузой, которого потом убили возле радиоузла…
— Я шла с покупками, — улыбнулась она, вспоминая, как ходила ночами в ближайшую деревню за продуктами — час туда, час обратно.
Яйца, иногда брусочек масла… Покупали по баснословной цене или просто выменивали за то, что еще можно было найти дома: папин довоенный отрез на костюм, мамины серебряные часики, бабушкина шерстяная шаль; в одну из этих апрельских ночей ушли и ее золотые сережки, полученные к конфирмации.
— Ты задержал меня — а была ночь, и я очень боялась, — ужасно грозным голосом спросил, куда иду и что тут среди ночи делаю…
Он вытянулся и прикрылся одеялом.
Молчал.
Потом спросил:
— Скажи, Квета, отчего мы теперь не столько живем, сколько вспоминаем, что было?
— Я и теперь радуюсь жизни, хотя и с удовольствием вспоминаю то, что было. А вообще-то, раз уж ты спросил — наверно, потому, что были тогда молодые, — нашла она в темноте его голову и провела по волосам, и сейчас еще, на шестьдесят седьмом году жизни, густым и жестким, как щетина, баюкающим движением руки старой женщины. — А в молодые годы человек и дышит за десятерых, и смотрит за десятерых. А уж любит-то — тем паче.
Читать дальше
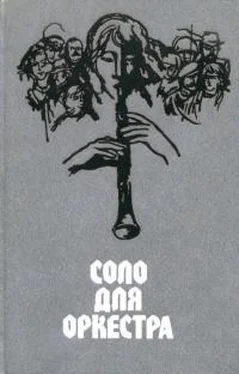
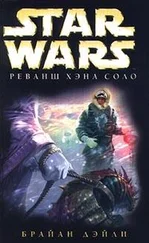
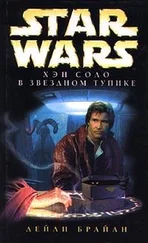



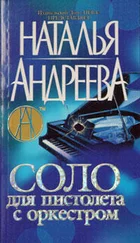
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)