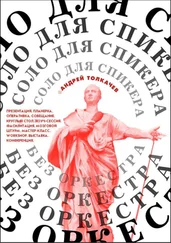Представив себе все это и посмотрев на Кларушку, она невольно радовалась, что еще полна жизненных сил. Это было эгоистично, она это понимала, но побороть себя не могла — отрадное сознание, что она может двигаться и не зависеть ежечасно от других, звучало в ней в эти минуты громче сострадания.
Когда ее выписали из больницы в первый раз, она, пробыв полгода дома, снова пошла работать. На прежнее место за канцелярским столом, с ежедневником, арифмометром и кипой бумаг. Еще шесть лет вставала спозаранку, чтоб приготовить мужу завтрак, наскоро прибрать в квартире и успеть на службу, пока однажды ночью не проснулась от острой щемящей боли в груди. Ей казалось, она задыхается, нельзя было произнести ни звука, но, к счастью, проснулся и Вацлав и услышал, как она хрипит.
Та ночь превратилась для нее в без малого тридцать ночей, когда различные аппараты бесстрастно регистрировали биение ее сердца. А те тридцать растянулись в почти триста, когда она могла только полеживать дома, борясь с усталостью и преодолевая отвращение к яркому свету и громким звукам.
Надо щадить себя, пани Поханьска. Особенно сердце. Поменьше эмоций…
Она стояла у окна и смотрела вниз, на улицу.
Июнь только начинался, деревья у тротуара обволокло молодой зеленью, крыши домов заливало солнце. Оглянувшись, она быстро распахнула раму и едва не отпрянула, так резко обдало ее волной свежего воздуха — она отвыкла от него за шесть недель пребывания в больнице. Да, здесь она была теперь по третьему звонку того, чему уже дала название: «Неотвратимость». Звонку, а не набату, как в оба предыдущих раза. Но все-таки ее оставили в стационаре.
В три часа пришел Вацлав. Принес банку сока и апельсины.
— На той неделе выпишут, — улыбнулась она и внимательно на него посмотрела (странно, они прожили вместе почти тридцать лет, виделись ежедневно, но она все еще не перестала открывать в нем что-то новое, такое, что до сих пор ускользало от ее внимания, как, скажем, эти две морщинки возле рта). — Что тебя огорчает?
— Ты. Твое больное сердце.
— Не волнуйся, пожалуйста. Все уж в порядке.
— Так говорят они?
— Они и я. Нет, правда. Я хорошо себя чувствую. Не дождусь, когда выпишут. А как ты?
— Никак, — сложил он руки на коленях, где штанины, вытянувшиеся от долгой носки, торчали пузырями. — Копаюсь в старых фотографиях, сортирую… Ты не поверишь, сколько я за эти годы наснимал!
Единственное, к чему он еще сохранил пристрастие после того, как в свое время вынужден был отказаться от рыбалки и когда вышел на пенсию. Единственное, что еще давало ему стимул жить… Вместо бесцельного шатания по квартире, сидения на лавочках с себе подобными или в пивных барах за кружками тепловатого пива перед глазами постоянно было что-то побуждающее к деятельности: задача рассортировать вороха снимков, уложенных в картонные коробки из-под ботинок. Число их возрастало с каждым годом, с каждой прогулкой по городу. Снимки первомайских торжеств разных лет, дня авиации, виды старинных пражских улочек, фонари на Кампе, играющие дети, деревья в цвету… А главное — лица. Сотни лиц. Молодые и старые. Украдкой пойманные объективом мгновения мечтательности, изумления, любовной ласки, задумчивости, смеха, слез…
— Вчера в одной редакции предложил несколько фотографий. Представь себе, три взяли, — улыбнулся он и, сняв очки, тыльной стороной руки протер глаза.
Она хотела спросить: «О Йоске ничего не слышно?» — но сдержалась. После того злополучного дня рождения десять лет назад, когда они в первый и последний раз собрались за столом все вместе, Йоска, правда, приходил еще, но уж один, без Мартины, и неизменно находил для этого отговорку или оправдание. Она радовалась, что он все-таки не забывает дорогу к ним или хотя бы к ней, но ни о чем его не спрашивала, лишь с легкой грустью отмечала про себя, что он всегда, будто нарочно, появляется, когда отца нет дома. Но и за это его не осуждала. Потом он начал появляться реже и наконец совсем пропал. В прошлом году пришла открытка из Ханоя, несколько строк: «Горячо поздравляю, я тут в долгосрочной командировке…»
— Знаешь, Квета, у меня для тебя… как бы сказать… сюрприз, что ли, — пересел Вацлав на стул возле койки и снова надел очки.
— Сюрприз? Какие у тебя еще могут быть сюрпризы?
— По-твоему, я ни на что уж не гожусь?
— Ну что ты, Вацлав… если бы не ты, меня теперь, наверно, и в живых-то не было, — сказала она, глядя прямо ему в глаза.
Он не отвел своих, он тоже смотрел ей в глаза, еще по-молодому красивые, зеленовато-карие, как осенний лист бука; они лучились таким теплом и лаской, что он нашел и стиснул ее руку, словно поблагодарить хотел за этот взгляд.
Читать дальше
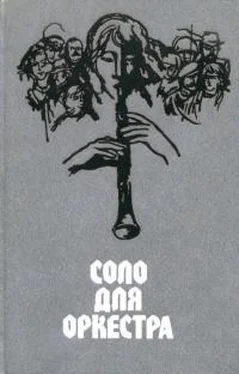
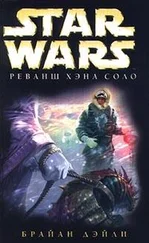
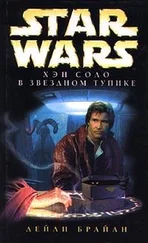



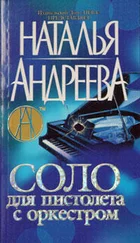
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)