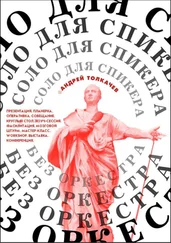— А как с питанием? Мы до открытия готовить здесь не будем.
Они растерянно переглянулись.
Заметив это, заведующая сказала:
— Ладно, что-нибудь придумаем.
По крутой скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, где с каждой стороны коридора, застланного вытертой дорожкой, было по три двери. Их комната находилась в конце. Все как тогда: окно с видом на березы (они теперь уже переросли гостиницу), две сдвинутые кровати, шкаф с коротким зеркалом на внутренней стороне дверцы, шаткий столик и рядом два стула с продранной обивкой, жестяной умывальник на тонких ножках и глиняный кувшин с холодной водой — за теплой надо было идти на кухню.
Вацлав опустил чемодан на дощатый пол и, когда следом вошла Квета, глубоко вздохнул. Открыл окно: воздух был застоявшийся. Обернулся.
Квета, не выпуская сумочки, стояла посреди комнаты, присмиревшая, бледная.
Он подошел и обнял ее за плечи.
— Ну что? Ты недовольна?
— Я просто не могу поверить, что это наяву.
— На этой кровати спала ты…
— А у окна мы допоздна стояли и глядели на звезды…
— Удовлетворена?
— Я просто счастлива.
Она открыла чемодан и вынула то самое необходимое, что взяли они в дорогу. Шкаф был протерт, она в этом убедилась, прежде чем положить туда рубашку Вацлава. В комнате тоже было чисто, кровати застланы новыми простынями. Когда она наконец убрала в ящик вязаную кофту и, закрыв дверцу, присела на постель, в груди у нее странно защемило. Неужто впрямь минуло тридцать лет с тех пор, как они приезжали сюда с Вацлавом? Казалось, лишь вчера она, как несколько минут назад, стояла возле шкафа, вытаскивая из него чулки, белье, рубашки, чтобы сложить их в чемодан, потому что медовый месяц кончился. Как будто между той минутой, тридцатилетней давности, и этой не было ровно ничего, не прошло ни единого дня, хотя в действительности их была нескончаемая череда. И не было за это время ни рождения Йоски, ни кончины родителей — сначала мамы, а потом отца, — ни переезда в новую квартиру, которую сначала не на что было обставить, ни ухода Йоски, ни травмы, полученной Вацлавом, когда он едва не лишился обоих глаз, ни его болезненной отчужденности…
До ужина они еще вышли прогуляться. Вел Вацлав, словно вспоминая стежки и лесные просеки, по которым ходили они в первые дни медового месяца, когда им не мешали ни дожди, ни мокрая трава, ни холода, сопровождавшие ненастье.
Шли рядышком, и то она брала его за руку, то он ее. Они не сплетали пальцев в страстном томленье, не прерывали путь поцелуями и объятьями, не глядели подолгу друг другу в глаза, не шептали пылких признаний. Все это оставалось там, в их молодости… И горячие поцелуи, и еще более жаркие излияния чувств мало-помалу обратились в пепел на жертвенном алтаре времени.
Они шли молча, но молчание сближало их сильнее самой шумной многословности, и, только когда неожиданно встречалось что-нибудь казавшееся им знакомым, они заговорщицки стискивали друг другу ладони.
В столовой уже накрыли столик у окна.
Ужинали в одиночестве.
Полнотелая заведующая поджарила им колбасу с яйцом, в общей мисочке подала кочанный салат, хлеб был свежий, масло душистое.
— Одно только я упустил, — сказал после ужина Вацлав. — Утром я это исправлю.
— Опять сюрприз?
— Тогда я нарвал тебе диких роз…
— Принес их мне в комнату…
— С утра был дождь — они совсем размокли…
— Но они уже распустились… Чудесно, если ты нарвешь такие же!
Поднявшись к себе, они долго еще стояли у раскрытого окна, глядя, как сгущавшийся сумрак становится все синее и превращается наконец в черноту ночи.
— Голове-то не низко? — заботливо спросила она, когда они уже лежали на старых широких и основательно продавленных кроватях. — Дома ты спишь на трех.
Она встала и принесла еще одну подушку, которая валялась без наволочки в шкафу. Подсунула ее Вацлаву под простыню и легла опять.
Они не говорили ни слова, но не спали.
Напрягали слух в непривычном для горожан безмолвии, которое сейчас скорее будоражило и раздражало, а не успокаивало.
Она слышала, как ворочался с боку на бок Вацлав, кровать поскрипывала, потом он глубоко вздохнул:
— Не спишь?
— Нет, не могу уснуть, — ответила она.
— Ты плохо себя чувствуешь?
— Да нет, не беспокойся, просто тихо очень — непривычно.
Вечерняя прогулка утомила ее, к тому же стали одолевать разные мысли, и это было тяжелей физической усталости. Опять нахлынули проклятые вопросы об отношении Вацлава к Йоске. Хотя прошло уж столько лет после его ухода. Почему Вацлав так и не простил его? А тут еще внезапное безразличие ко всему после того, как он вышел на пенсию. Оно продолжалось недолго, Вацлав вернулся к своему старому увлечению фотографией, оно ему помогло забыться, забыть о том, что он расстался с корректорской, о том, что неминуемо ждет каждого, когда придет его срок; он несколько недель ходил как в воду опущенный, сидел один, не зажигая света, сторонился ее, не хотел разговаривать. И всякий раз молчал, когда она спрашивала, что с ним. Две тайны, которые он не захотел открыть ей. Всего две.
Читать дальше
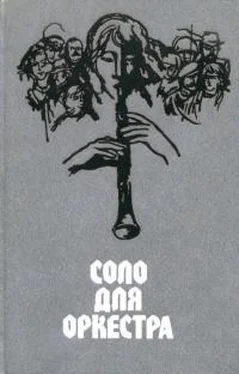
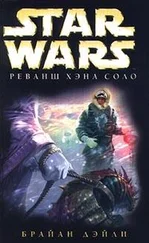
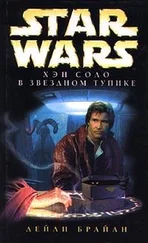



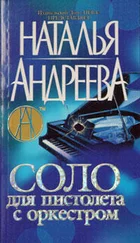
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)