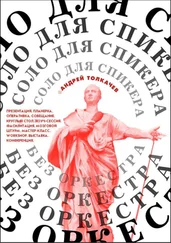Вскоре умерла бабушка. Братья и сестры только и думали, как бы поскорее удрать из дома. Отец пил, пропивал все, что зарабатывал. Мать надрывалась с рассвета до темноты, приходила домой поздно вечером, на детей у нее не было времени, она даже разговаривала с ними не иначе как палкой. «Загубили мою жизнь!» — кричала она, выплескивая злобу и раздражение на детей, била их почем зря, пинала, колотила чем придется. Олю обижали не столько побои, сколько то, что мать дубасила ее при посторонних, гонялась за ней по улице, бросала в нее камнями, выкрикивая непристойные ругательства, — и это на глазах у всех. Однажды мать рассвирепела на самого младшего, ему еще и трех не было. Так он ее взбесил, что мать схватила полено и давай охаживать ребенка… Оля видела — малыша уже заливает кровь, и тогда решилась, бросилась к матери, повисла на ее руке: «Не бей его, не бей!» С другой стороны на мать навалился брат, повис на другой руке, так и остановили избиение. Тогда Оля впервые осознала, что силе надо противопоставлять только силу. В конце концов мать сникла, закрыла лицо руками и запричитала: «Несчастные дети, навек прокляты, подняли руку на мать!»
И тогда в душе Ольги поселилась пустота. Она помнила кое-что из того, чему ее учила бабушка: «Не забывай божью заповедь, чти отца своего и мать свою…» Поздно. Она восстала против бога, совершила смертный грех. Нет ей теперь прощения. Бог стал ее врагом, от него можно ждать только проклятия. Как жить человеку, который знает, что хуже того, что есть, с ним уже ничего не может быть? Она ничего не признавала: ни авторитета, ни морали, ни законов. В семнадцать лет ушла из дома. Пошла по рукам. На мужчин пожаловаться не могла — они к ней хорошо относились. Одному она даже обязана хорошим местом в бюро обслуживания гостиницы. Другому, Петеру, безупречной репутацией — ведь шесть лет она жила порядочно, как счастливая молодая жена.
Правда, жить с женатым мужчиной в маленьком городке считалось скандалом. А ей слишком важно было не потерять чудом приобретенное место и положение. И она уединилась, не показывалась на людях. Изолировала себя от них, от их сплетен, никто о ней не заботился, и она никем не интересовалась. Жила как в теплице, отрезанная от мира, отделенная от него стойкой учтивой улыбкой, общими фразами: «Желаю приятного отдыха», «Надеюсь, погода будет хорошей». Соединяла телефонных абонентов: «Момент, переключаю» — и часто думала: «Эти двое на концах провода говорят между собой как человек с человеком, я же — лишь часть аппарата, мой голос звучит как магнитофонная запись». Иной раз ей казалось — она уже мертвая, тогда она сломя голову бежала к Кларе: «Клара, помоги, сделай что-нибудь со мной, разбуди, я на дне». И Клара варит черный кофе, разрешает ей курить, а вместо первой помощи рассказывает анекдоты и ругает ее как извозчик: «Тебе, милочка, надо бы всыпать горяченьких, да как следует, язви твою душу. Такая молодая, здоровая, красивая, мне бы твои двадцать шесть! От кофе и брани Ольга приходила в себя, возвращалась домой, включала телевизор, смотрела в голубоватый полумрак, на улыбающуюся дикторшу, и мысленно спрашивала: «Тебя тоже оставил муж, ты тоже чувствуешь себя восковой куколкой?» Потом включала радио, слушала ночную музыку, такую далекую от живых людей, и уговаривала себя: «Все хорошо, я надежно защищена в этой теплице, ничего мне не грозит, ни слово, ни взгляды, дикторша не может ошибиться и произнести лишнюю фразу, ей даже чихнуть нельзя, этот искусственный мир стопроцентно идеален, рассчитан наперед, никого он не встревожит. У меня тепличная жизнь, работа, горы я вижу только за стеклами, тротуар доводит меня до службы, жизнь моя упорядочение, ничего со мной не может случиться, только потихоньку, только осторожно, только не отступать от предписанных правил, не плевать на пол, не сходить с тротуаров, не поскользнуться на ковре».
Широко открытыми глазами смотрит она в темное небо. Медленной дугой падает звезда. Начало сентября, загадай желание — и оно исполнится. Смешно. «Я зашла слишком далеко, — говорит она себе, — обратного пути уже не преодолеть». Глаза ей резало, в голове стучало, губы пересохли. Месяц отражался в оконном стекле, как в глубокой ночной воде.
Только они вышли из хвойного леса, как сразу увидели — наступила осень. По высокому жнивью бродили гуси, переваливались с боку на бок, выстроившись по росту. На косогорах краснели шиповник и рябина, золотились сухие листья.
За поворотом долина расступилась, и дети, как по команде, закричали:
Читать дальше
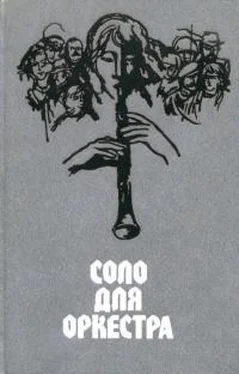
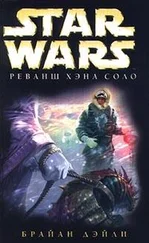
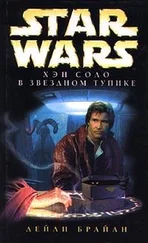



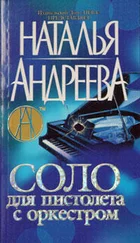
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)