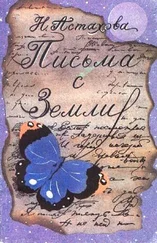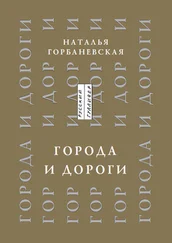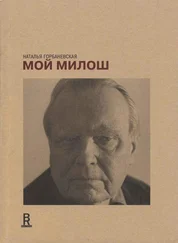И, подъемля взгляд нетрезвый
(и не трезвый, и не пьяный):
– Здравствуй, ангел мой пресветлый,
заоконный, океанный!
Бесприютной, бесприветной,
многогрешной, окаянной,
мне явился в предрассветный
час твой облик осиянный.
И, глаза спуская долу
(долу, к полу, в подпол, в бездны):
– Ну, прощай! Опять подолгу
не глядеть в просвет небесный,
не давать уста глаголу
искривить мольбой болезной.
Не ищи в стогу иголку,
ни меня во тьме вселенской.
Подымая, опуская
очи долу, к небу очи:
– Кто я? Что я? птичья стая,
в непроглядном мраке ночи
разрываемая бурей,
разбиваемая оземь,
об отвал землицы бурой,
о проклюнутую озимь,
уносимая за тучи,
за моря, за океаны,
за вершины и за кручи,
за окно… Открыты краны
четырех конфорок света.
Не ищи меня, иголку,
в сна сугробе, в стоге снега,
в тех потьмах, где я умолкну.
Эта глиняная птичка —
это я и есть.
Есть у ангелов привычка —
песенку завесть.
В ритме дождика и снега
песню затянуть,
а потом меня с разбега
об стену швырнуть.
Но цветастые осколки
– мусор, хлам и чад —
не смолкают и не смолкли
и не замолчат.
Есть у ангелов привычка —
петь и перестать.
Но, непрочный, точно иней,
дышит дух в холодной глине,
свищет – не устать.
«В движеньи мельник жизнь живет…»
В движеньи мельник жизнь живет,
в движеньи.
Навек затверженный завет,
священней
которого – да ничего! —
Путь Крестный —
и тот движенья торжество:
опасный
момент распятия, на миг
распутья
преодолеть и напрямик
рвануться,
как жернов, камень отвалить
по смерти
и дверь в бессмертье отворить
сквозь тверди.
Я ввысь не мечу, но не мне
ужели
тарелка пела на стене:
«В движеньи,
в движеньи счастие мое…»?
Хоть мельник,
хоть Шуберт – счастья моего
подельник.
Видно, пора
до того добираться предела,
где воск на флейте
и ноты в конверте.
На флиппера,
в которые я сыграть не успела,
слезы пролейте
по моей смерти.
Но, расстеля
ту же скатерку, садитесь за ужин
– я всем прощаю,
всем завещаю
звон хрусталя
расколовшихся льдинок на луже,
стол со свечами,
выклик «С вещами»,
краешек кромки
пруда в Тимирязевском парке,
крохотку неба
над озером Нево,
гипса обломки
от Дионисьевской арки,
корочку хлеба,
щепотку гнева,
каплю росы
на трилистнике четверолистом,
каплю веселья,
каплю везенья,
пенье осы
над сосною на севере мглистом…
И до свиданья,
до воскресенья.
«Как перепачканный мелом…»
Как перепачканный мелом
школьник, не зная урока,
стань перед этим пределом
за два шага до порога.
Вратнику не отвечая,
хмуро, упрямо и немо
жди, когда звякнут ключами
и закричат «перемена».
Большая перемена
во веки веков. Аминь.
Пошевелись онемело,
тяжелые веки раздвинь.
Глянь, чтобы после вспомнить
неперейденный порог,
и возвращайся исполнить
недоотбытый срок.
На перемиг светофора
над еле видной чертой
вскинется синяя штора
этою между и той
жизнью, мерцающей стрелки
на электрический тик,
на перепрыжку каретки,
на дактилический стих
с отнятой, отморожённой
бедной последней стопой,
брошенной в яму за зоной,
на несвиданье с тобой,
на несведённые створки
раковины на песке,
на несмываемо горький
миг на одном волоске
– вскинется к свету и тут же
рухнет потемками в глаз,
тщившийся высмотреть лучше
в миг, чем за шторою в час…
В час предрассветного сора
на перекрестке глухом
рыжий зрачок светофора
вскинется и петухом
загорлопанит, рассея
призрачную синеву
и самого ротозея
вместе со сном наяву.
Скоротаем время
до мартовских ид,
покуда не дремля
око ловит вид
нас – поющих, спящих,
курящих и пьющих, —
сколачивая ящик,
куда нам сыграть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу