О свободе (точнее, о её отсутствии) размышляет и Бертран Рассел в книге «Почему я не христианин», в эпизоде, где Мефистофель рассказывает доктору Фаусту об истории творения:
«Бесконечные восхваления хора ангелов стали утомительны; ведь, в конце концов, разве Он не заслужил этого? Разве Он не дал им вечного блаженства? Не приятнее ли получать незаслуженную хвалу и почитаться существами, которым Он принесет страдания? Он улыбнулся про себя и решил, что великая драма должна быть сыграна.
Неисчислимые века раскаленная туманность бесцельно вращалась в пространстве. Со временем она приняла форму, образовались центральное тело и планеты, последние остывали, бурлящие моря и пылающие горы вздымались и опускались, из черных облаков на едва застывшую землю низвергались горячие потоки дождя. Затем в глубинах океана возник первый росток жизни и быстро развился, в благодатном тепле, в огромные деревья, громадные папоротники, выраставшие из влажной почвы, в морских чудовищ, размножавшихся, дравшихся, пожиравших друг друга и гибнувших. А из чудовищ, по мере того как драма развертывалась, возник человек, обладавший силой мышления, знанием добра и зла и нестерпимой жаждой поклоняться. И человек увидел, что все преходяще в этом безумном, чудовищном мире, что все вокруг борется за то, чтобы ухватить любой ценой несколько кратких мгновений жизни, прежде чем смерть вынесет свой беспощадный приговор. И человек сказал: «Есть скрытая цель, которую мы могли бы постичь, и эта цель благая; ибо мы должны почитать что-нибудь, а в видимом мире нет ничего достойного внимания». И человек вышел из борьбы, решив, что бог вознамерился создать из хаоса гармонию человеческими усилиями. И когда он следовал инстинкту, который бог передал ему от его хищных предков, то называл это грехом и молил простить его. Но он сомневался, есть ли ему прощение, пока не изобрел божественного плана, по которому гнев Божий должен быть утолен. И видя, что настоящее нехорошо, он сделал его еще хуже, так, чтобы будущее могло стать лучше. И он возблагодарил Бога за силу, позволившую ему отказаться даже от тех радостей, которые были доступны. И Бог улыбнулся; и когда увидел, что человек достиг совершенства в отречении и поклонении, запустил в небо еще одно Солнце, которое столкнулось с Солнцем человека; и все опять превратилось в туманность.
«Да, – тихо сказал Он, – это было неплохое представление; надо посмотреть его еще раз».
Таков в общих чертах мир, который рисует нам наука, – он даже еще бесцельнее и бессмысленнее.
Когда мы впервые ясно видим противоположность факта и идеала, кажется, что для утверждения свободы необходим дух яростного восстания… Кажется, что противостоять с прометеевской твердостью враждебной вселенной, всегда помнить о зле и ненавидеть его, не прячась от ударов, наносимых злобной властью, – долг тех, кто не станет унижаться перед неумолимым. Однако негодование всё еще кабала, ибо обращает наши мысли к этому злокачественному миру; поэтому в яростном желании, порождающем дух восстания, есть какое-то самоутверждение, которое мудрым людям необходимо в себе преодолеть. Негодование есть подчинение наших мыслей, но не желаний; а мудрость стоической свободы заключается в подчинении желаний, но не мыслей. Из подчинения желаний вырастает добродетель смирения. Свобода приходит только к тем, кто уже не требует от жизни никаких, подверженных действию времени, личных благ.
В смирении есть еще одно достоинство: даже реальных благ не следует желать, когда они недостижимы. Для молодых нет ничего недостижимого; вещь, желаемая со всей силой страсти и вместе с тем невозможная, для них непредставима. Но смерть, болезнь, нищета, голос долга, дают всем нам понять, что мир создан не для нас и что, как бы прекрасны ни были вещи, к которым мы стремимся, случай непременно всё переиграет по-своему. Когда приходит несчастье, мужество заключается в том, чтобы стерпеть без единого слова крушение надежд и отвратить мысли от тщетных сожалений». [30, с. 103]
Нам представляется, что размышления Рассела о смирении (резиньяции) в чём-то перекликается с этикой Шопенгауэра и концепцией Балсекара «пусть жизнь течет». Когда приходит понимание своего тотального бессилия перед случаем, когда ты вдруг глубоко осознаешь свою безмерную малость и предельную хрупкость в этой гигантской и непостижимой Вселенной, остается одно – смириться. Смириться перед течением своей жизни, перед своими недостатками и изъянами, перед своим принципиальным непониманием, перед будущим – зная, что всё это когда-то закончится и мы вернемся туда, откуда пришли на очень короткое время. А смирение, (в интерпретации Балсекара), это следование случайностям потока.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
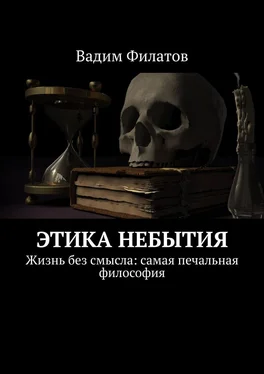
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)








