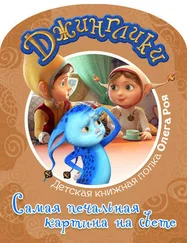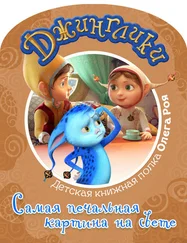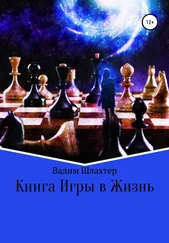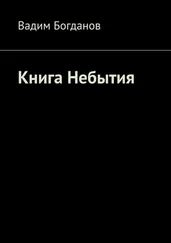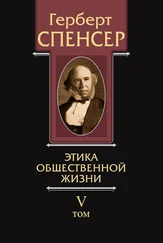Конечно, всё это совершенно недоказуемо. Мы все больше склоняемся к тому, что это более, чем недоказуемо, – это в высшей степени маловероятно. Наш жизненный опыт свидетельствует о том, что живет человек один-единственный раз – не будет ни загробной жизни, ни перевоплощения в следующей земной жизни. Да и само понятие «вещи в себе», непостижимой сущности, пребывающей за явлениями, тоже находится под большим вопросом. У Сартра в книге «Бытие и ничто» об этом говорится определенно: «Современная мысль достигла значительного прогресса, превратив сущее в серию явлений, которые его обнаруживают. Прежде всего несомненно освободились от того дуализма, когда в сущем внутреннее противопоставляется внешнему. Нет больше внешнего, если под ним понимать поверхностную оболочку, которая скрывала бы от взглядов истинную природу объекта. В свою очередь, нет и той истинной природы как сокровенной реальности вещи, существование которой можно предчувствовать или предполагать, но до которой никогда не добраться, поскольку она всегда остается „внутри“ рассматриваемого объекта. Видимость отсылает к целому ряду своих проявлений, а не к скрытой реальности, которая вбирала бы в себя все бытие сущего. Если мы однажды порвали с тем, что Ницше назвал „иллюзией задних миров“, и если мы больше не верим в бытие позади явления, это последнее становится вполне положительным, его сущность есть „кажимость“, которая больше не противопоставляется бытию, но, напротив, есть его мера, ибо бытие сущего и есть как раз то, чем оно показывается». [34, с. 20]
Вот еще один взгляд на реальность, который отрицает какую-либо сущностную основу за явлениями: ни одно из явлений не указывает на что-либо позади себя, оно обозначает само себя и весь ряд явлений в целом. Значит, нет никакой воли или ещё какой бы то ни было метафизической «вещи в себе». Но ведь и это недоказуемо, правда? Кто-то верит в ноумен, кто-то – нет. Сам Сартр употребляет фразу «если мы не верим».
Конечно, если быть предельно честным, нужно признать, что смерть остается для нас загадкой, поскольку оттуда никто еще не вернулся и не поведал нам о своих ощущениях. Но интуиция подсказывает нам, что смерть – это абсолютный конец. Для противоположного мнения должны быть хоть какие-то основания, а их у, повторяем, нас и нет. Страна мертвых хранит гробовое молчание. Но Шопенгауэр на что-то надеется: «Мы потому боимся смерти, что представляем её себе в виде непроницаемой тьмы, из которой мы вышли при рождении и в которую должны возвратиться после смерти. Но я верю, что после смерти мы очутимся в таком свете, в сравнении с которым солнечный свет будет тенью» [64, 5 с. 207—219]. В том-то и дело, что после смерти не будет ни света, ни тьмы, ни того, кто мог бы воспринять то или другое.
У Рассела есть любопытные рассуждения о бессмертии души. Несмотря на свой атеизм, он высказывается об этом вопросе осторожно и корректно:
«Все свидетельствует о том, что наша умственная жизнь связана с мозговой структурой и организованной телесной энергией. Разумно было бы предположить поэтому, что когда прекращается жизнь тела, вместе с ней прекращается и умственная жизнь. Данный аргумент апеллирует к вероятности, но в этом он ничем не отличается от аргументов, на которых строится большинство научных заключений.
Этот вывод может быть оспорен с разных сторон. Психологическое исследование располагает некоторыми данными о жизни после смерти, и с научной точки зрения соответствующая процедура доказательства может быть в принципе корректной. В этой области существуют факты столь убедительные, что ни один человек с научным складом ума не станет их отрицать. Однако несомненность, которую мы приписываем этим данным, основывается на каком-то предварительном ощущении, что гипотеза выживания правдоподобна. Всегда имеется несколько способов объяснения явлений, и из них мы предпочтем наименее невероятное. Люди, считающие вероятным, что мы живем после смерти, готовы и к тому, чтобы рассматривать данную теорию в качестве лучшего объяснения психических явлений. Те же, кто по каким-то причинам считают эту теорию неправдоподобной, ищут других объяснений. По моему мнению, данные о выживании, которые пока что доставила психология, гораздо слабее свидетельств физиологии в пользу противоположной точки зрения. Но я вполне допускаю, что они могут стать сильнее, и тогда не верить в жизнь после смерти было бы ненаучно.
Выживание после смерти тела, однако, отличается от бессмертия и означает лишь отсрочку психической смерти. А люди хотят верить именно в бессмертие. Верующие в него не согласятся с физиологическими аргументами, вроде тех, что я приводил, – они скажут, что душа нечто совсем иное, чем ее эмпирическое проявление в наших телесных органах. Думаю, что это – метафизический предрассудок. Сознание и материя – удобные в некоторых отношениях термины, но никак не последние реальности. Электроны и протоны, как и душа, – логические фикции, которые имеют свою историю и представляют собой ряды событий, а не какие-то неизменные сущности. Что касается души, это доказывают факты развития. Любой человек, наблюдающий рождение, выкармливание и детство ребенка, не может всерьез утверждать, что душа есть нечто неделимое, прекрасное и совершенное на всем протяжении процесса. Очевидно, что душа развивается подобно телу и берет что-то и от сперматозоида, и от яйцеклетки. Так что она не может быть неделимой. И это не материализм, а просто признание того факта, что все интересное в мире – вопрос организации, а не первичной субстанции». [30]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
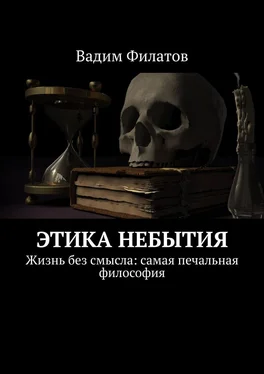
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)